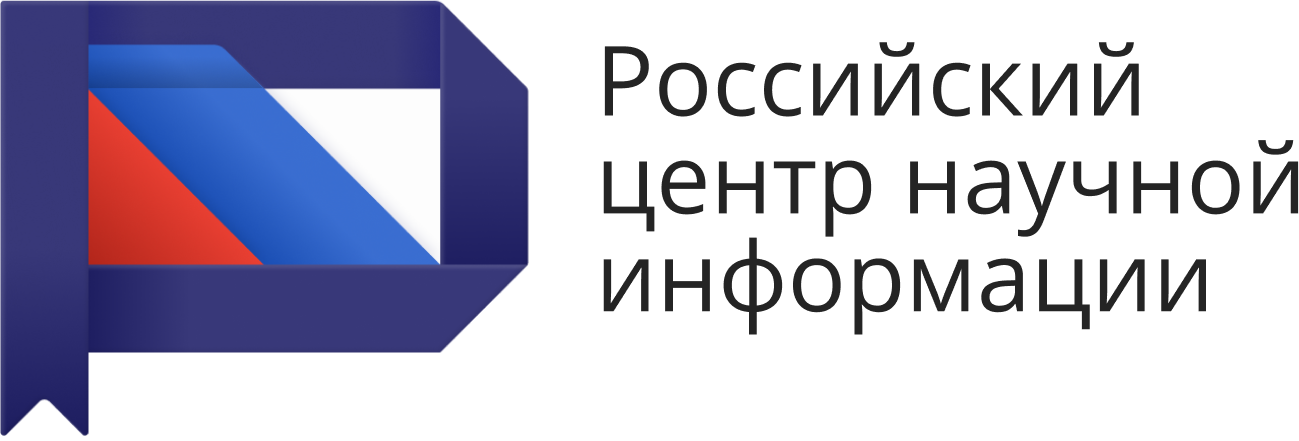Turgenev vs Flaubert, or Literary Polemic about Sancta Simplicitas
- Авторлар: Belyaeva I.A.1,2
-
Мекемелер:
- Lomonosov Moscow State University
- A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences
- Шығарылым: Том 83, № 6 (2024)
- Беттер: 60-70
- Бөлім: Articles
- URL: https://journals.rcsi.science/1605-7880/article/view/272409
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1605788024060052
- ID: 272409
Толық мәтін
Аннотация
The article is devoted to a particular issue within the framework of the voluminous theme “Turgenev and Flaubert”. This issue is based on a well-known fact, namely: the Russian writer’s refusal to translate Flaubert’s story “Simple Soul”, which was part of cycle called “Three Tales” and was combined with two others (“Legend of St. Julian” and “Herodias”) the problem of holiness. Turgenev was also interested in the phenomenon of holiness, especially the question of its representation in modern life. At the legendary level, which is presented in “Legend of St. Julian” and “Herodias”, Turgenev found Faubert’s position close. Turgenevʼs interest in translating these two texts was primarily determined by their stylistic novelty, which was a difficult task for him, but was an extremely useful school. Within the framework of the aesthetics of the simple and everyday narrative, in which Flaubert’s “Simple Soul” was executed, telling about the unexpected transformations of an ordinary person into a saint, Turgenev did not consider it productive to reflect. Nevertheless, in the early 1850s, long before he undertook to translate Flaubert and, in principle, before meeting the French writer, Turgenev was developing the theme of “Sancta Simplisitas”. The article presents a brief overview of the unrealized plot by Turgenev about the poet-painter, who, being a completely simple person who had not read a single book, suddenly composed highly spiritual Easter poems. The unconvincing nature of this character, which gradually acquired comic features, was the reason for Turgenev’s refusal to develop the plot. But the writer returned to the plot about Lukerya, also conceived in the early 1850s, shortly before starting work on the translations of Flaubert. The heroine of “Living Relics” is somewhat reminiscent of Philicite, but her holiness is due to her real, unquestioned closeness to Christ. Nevertheless, she represents an “unrecognized saint”, just like Flaubert’s heroine. The article proves, by updating Turgenev’s early plans addressed to the problem of Sancta Simplicitas, that he perfectly understood the complexity of this artistic task, therefore the high assessments from George Sand and I. Taine of his Lukerya did not open his eyes on what he wrote, but confirmed the correctness of the path. As a writer, he did not agree with Flaubert’s artistic tactics in terms of depicting a modern “unrecognized saint”, since this could be fraught with unacceptable comedy in this case, which is what happened with Chekhov in “Darling”, which researchers consider as a cryptoparody of Flaubert’s “A Simple Soul”.
Толық мәтін
Тему «Тургенев и Флобер» нельзя считать малоизученной. Научное обоснование она получила еще в работах Л.В. Пумпянского на рубеже 1920–1930-х годов, в связи с изучением так наз. французской эпохи тургеневского творчества [1, с. 504], и во многих аспектах сохраняет свою научную злободневность до сих пор, особенно после издания переписки Тургенева и Флобера [2]. В последнее время внимание уделяется общим проблемам взаимоотношений двух писателей ([3]; [4]; [5]), тургеневским переводам из Флобера ([6]; [7]), что позволило существенно дополнить классические работы по этому вопросу ([8]; [9]). Перспективно изучение романной поэтики Флобера и Тургенева [10].
Филологического толкования требует ситуация с переводом «Трех повестей» (“Trois contes”) Флобера, даже несмотря на имеющиеся убедительные научные трактовки этого вопроса. Сам же вопрос заключается в следующем: почему Тургенев решительно отказался переводить вторую из них – «Простую душу» (“Un cœur simple”), но самоотверженно перевел первую и третью повести – «Легенду о св. Юлиане Милостивом» и «Иродиаду», которые были не очень органичны для его поэтики.
Известно, что Тургенев переводом всех «Трех повестей» и публикацией их в России хотел финансово помочь Флоберу, поскольку тот очень нуждался в деньгах. Но это был не единственный мотив. Тургенев этим предприятием вступал на почву интересного лично для него художественного эксперимента. Он прекрасно понимал, что новые тексты Флобера представляют собой и новое слово в литературе, что этот необычный опыт – со стилем, словом, формой – предполагает ранее скрытые для художника слова возможности. Сам Тургенев в конце 1870-х годов вполне был открыт для экспериментальной поэтики. Достаточно вспомнить его «студии типа» «Стук… стук… стук!», «Старые портреты», «Отчаянный» и др. [11], «Стихотворения в прозе» (“Senilia”) или роман «Новь»1. Неслучайно «Католическую2 легенду о св. Юлиане Милостивом» и «Иродиаду» Тургенев включил в свое собрание сочинений 1880 г., что особым образом характеризует его отношение к этим текстам, которые он считал отчасти своими. Сам процесс перевода писатель рассматривал как своего рода подвиг. Его очень заботил вопрос о корректности передачи сложнейшей словесной ткани Флобера, о стилистических эквивалентах, которые бы воспринял русский читатель. В письме к М.М. Стасюлевичу от 29 марта (10 апреля) 1877 г. Тургенев признавался, что для него «это был tour de forсe – заставить русский язык схватиться с французским – и не остаться побежденным» [13, т. 15, кн. 2, c. 111].
Языковая проблема, волновавшая Тургенева при переводе двух из трех флоберовских повестей, очевидно успешно им решалась. Хотя у специалистов в этом вопросе мнения отчасти расходятся. М.К. Клеман считает, что Тургенев при переводе «Легенды о св. Юлиане» серьезно отступил от оригинала, расширяя непонятный для русского читателя текст своими комментариями, что вызывало вопросы уже у современников писателя и обусловило скорое появление новых переводов3. Однако Н.Г. Жекулин, признавая отмеченные М.К. Клеманом нюансы тургеневского перевода «Легенды», считает, что Тургенев передал самое главное для него – «краски и тон оригинала» [13, т. 15, кн. 2, c. 71]. Исследователь также замечает, что Тургенев был ближе к «последнему пласту беловой рукописи Флобера», нежели к «писцовой копии» [6, c. 66], на основе которой или которых (их было несколько) в дальнейшем издавалась новелла Флобера4. Т.е. Тургенев не исказил, а именно точно перевел флоберовский текст, который впоследствии был изменен в силу разных обстоятельств при публикации.
В любом случае, сам Тургенев склонен был оценивать свою работу высоко. В уже цитированном письме к М.М. Стасюлевичу писатель следующим образом характеризовал свой труд: «А я так старательно отчеканил эту вещь, что не желаю оставить ни одного пятнышка. Могу прибавить, что изо всей моей литературной карьеры – я ни на что не гляжу с большей гордостью – как на этот перевод» [13, т. 15, кн. 2, c. 111]. Это была для Тургенева и своего рода школа, которая сказалась в его «Песне торжествующей любви», посвященной Флоберу, изучение которой, как справедливо замечает Н.Г. Жекулин, «заслуживает отдельного, специального исследования» [6, c. 70].
Но и вопрос о выборе Тургеневым для перевода «Легенды о св. Юлиане» и «Иродиады» Флобера едва ли закрыт, поскольку не вполне еще понятно, что же так привлекло его в этих двух повестях, что он пренебрег единством флоберовского цикла, и самое главное – что насторожило его в «Простой душе», от которой он отказался, причем также в ущерб целостности.
Сам Тургенев объяснял свою избирательность в письме к М.М. Стасюлевичу от 17 февраля (1 марта) 1877 г. цензурными препонами, которые возможны при публикации «Простой души» в России. Однако, как справедливо отмечает О.Б. Кафанова, писатель вспоминает о цензуре скорее потому, что «заботится о поддержании высокого renommée своего друга» [15, c. 149], причины же отказа кроются в другом. В этом же письме Тургенев высказывает сомнения чисто эстетического плана, поскольку считает «Простую душу» «менее удачной» [13, т. 15, кн. 2, c. 68] из трех повестей Флобера. Действительно, дело тут, скорее, не в цензуре, а в «эстетике», о чем речь пойдет позже.
Ученые выдвигают и иные мотивы тургеневской сдержанности по отношению к повести о «глуповатой забитой служанке» [13, т. 15, кн. 2, с. 68], как ее характеризовал сам Тургенев. Н.Г. Жекулин полагает, что Тургенева «в языке и стиле новелл Флобера привлекало то, как они служили для передачи исторической эпохи», а «современная легенда» под названием «Простая душа» не вписывалась в этот ряд и, «может быть, именно поэтому его меньше всего интересовала» [6, c. 69]. С этим доводом трудно не согласиться, как и с соображениями О.Б. Кафановой, которая указывает на разное понимание обоими писателями проблемы святости, этой своего рода важнейшей точки расхождения между ними.
Действительно, Тургенева привлекал в этой связи современный материал, что отражено в его рассказе «Живые мощи», окончательный текст которого датирован январем 1874 г.5 Получается, что он дописывал историю Лукерьи почти параллельно с Флобером. Комментируя освещение образа Лукерьи в тургеневском тексте, О.Б. Кафанова замечает: «В представлении Тургенева категория святости – нечто высокое, свободное, героическое; это способность индивида достойно реализовать свое предназначение в универсальной ситуации существования» [15, c. 151]. Так в героическом ключе и сам Тургенев оценивал и «одну из наших святых» [16, т. 11, c. 192] – Жорж Санд6. А значит, по мысли исследовательницы, «это и есть тот полный перечень свойств, которые Тургенев подразумевал под “святостью”» [15, с. 155]. Возможно, это сближение справедливо, тем более что Жорж Санд высоко оценила тургеневский рассказ и образ Лукерьи [15, с. 153–154]. Писательница сама стояла у истоков традиции, утверждавшей в литературе тему «крестьянина с богатым внутренним миром, индивидуальным характером и взглядом» [15, с. 154]7. И все же остаются сомнения по поводу того, что «высоким, свободным, героическим» исчерпывается та святость, которая представлена в образе Лукерьи. Пусть в ней ярко выражен «пафос оптимизма, способность радоваться каждому дню своей жизни», тогда как в Фелисите у Флобера представлен «отказ от собственной индивидуальности», «аскеза, доходящая до фанатизма» [15, с. 151], тем не менее остается какая-то существенная недоговоренность при интерпретации святости простой крестьянки Лукерьи исключительно в героическом ключе, да еще и как бы на одной ступени с Жорж Санд. Все-таки это разные миры.
Трудно согласиться и с мыслью о якобы вообще случайном обращении Тургенева к теме святости в рассказе «Живые мощи», которую, как полагает О.Б. Кафанова, постфактум раскрыли писателю оценившие ее И. Тэн и Жорж Санд. И. Тэн считал, что в рассказе Тургенева передана картина «средневековой верующей души», а Жорж Санд в письмах Тургеневу откровенно восхищалась «душой» и «глубиной правды» героини8. «Поначалу, – полагает исследовательница, ссылаясь в том числе на скромную характеристику “Живых мощей” самим Тургеневым, решившим наконец опубликовать свой старый набросок в сборнике “Складчина” (1874), – он о святости и не думал, только под влиянием рецепции И. Тэна, а потом и Жорж Санд, которые разъяснили ему его открытия, Тургенев понял, что концепция Флобера противоречит его собственному пониманию святости» [15, c. 151]. Однако писатель более чем сознательно поместил текст, повествующий о страдалице и Божьей избраннице Лукерье, в сборнике «Складчина», который, как следовало из его полного названия, был составлен «из трудов русских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии».
Посылая через Я.П. Полонского в сборник свой рассказ «Живые мощи», Тургенев одновременно характеризует его как всего лишь «набросок», который он предлагает якобы за неимением чего-нибудь «более значительного», но одновременно добавляет, что в этом рассказе есть «указание на “долготерпение” нашего народа», которое, «быть может, не вполне неуместно в издании, подобном “Складчине”» [13, т. 13, с. 13; курсив наш. – И.Б.]. Т.е. Тургенев особым образом оценивает пафос издания, в котором будут органичны сочинения не о глуповатых или забитых простых характерах, в духе Н.В. Успенского, а о людях великого духа, несмотря на то что они могут казаться примитивными. И далее он рассказывает историю о голоде 1841 г., которой сам был свидетелем, и которая как бы вторит и одновременно усиливает тему особого рода долготерпения, или человеческой крепости, поднятую в «Живых мощах». Однажды во время посещения Тульской губернии, сильнее других пострадавшей от голода, писатель с «товарищем» услышали от хозяина трактира рассказ о том, как крестьяне переживали это испытание. На вопрос – «были тогда беспорядки, грабежи?», – тот ответил: «Какие, батюшка, беспорядки? <…> Ты и так Богом наказан; а тут ты еще грешить станешь?» [13, т. 13, с. 13]. В более раннем письме к Я.П. Полонскому от 18 (30) декабря 1873 года Тургенев также пишет о том, что в «Живых мощах» «выводится пример русского долготерпения». А по поводу высказанной в том же письме якобы заниженной оценки рассказа – «этот недоконченный отрывок … короток и едва ли не плоховат» [13, т. 12, c. 255, 256] – заметим, что она относится скорее к исполнению, к выражению центральной идеи рассказа, что действительно было сложнейшей задачей, и Тургенев, как это с ним часто случалось, сомневался в успехе. Но вот значение самой проблемы им осознавалось вполне. Без Жорж Санд и без И. Тэна он понимал, что делает и что написал. Нет сомнения и в том, что отзывы авторитетных французских коллег были важны для Тургенева, но именно потому что он сам размышлял об особенном свойстве русского простого человека, которое порой необъяснимо и не мотивировано, но граничит со святостью. Причем размышлял не только в «Записках охотника», но и в других текстах, хотя, в основном, на народном материале, о чем мы еще скажем позже. А вот его современники, И.А. Гончаров и Ф.М. Достоевский, разрабатывали приблизительно в это же время тему мирской святости в ином ключе, обратившись к воплощению образа «положительно прекрасного человека» ([18]; [19])9. Но Тургенев шел по этому полю своим оригинальным и не всегда простым путем, в чем-то соприкасаясь, а в чем-то отталкиваясь от опыта своих коллег-современников. И Флобер был в их числе.
Итак, из «Трех повестей» для перевода Тургенев берет две, в которых очевиден ведущий принцип стилизации – и Тургенев в этом плане многому учится у Флобера. «Легенда о св. Юлиане» и «Иродиада» дистанцированы во времени, они поднимают проблему святости в легендарном ключе, и Тургенев в данном случае идет за Флобером. «Простая душа» обращена к современному материалу, т.е. она рассказывает о такой «святой», которая находится среди живущих. Как верно заметил Р.Г. Назиров, «в форме натуралистической новеллы Флобер создал житие святой», или «неузнанной святой, Sancta Simplicitas» [23, c. 156]. Это было очень смелое художественное решение, которое, видимо, смущало Тургенева, как позже настораживало Чехова. При этом, конечно, нельзя не учитывать, что святость Флобером еще и как будто изучается изнутри – не как сакральный феномен, но скорее как психологическая ситуация. Сошлемся на Н.А. Литвиненко, которая пишет по этому поводу, что «сакральный опыт входит у Флобера в концепцию психологии “простого”, тождества реального и ирреального в изображении психологического мира героини, <...> “простое” сердце, рождающееся религиозно-мистическое сознание героини увидены изнутри, как будто глазами самой героини» [24, c. 137]. Возможно, что Тургенев дистанцируется именно от такого рода психологизма, но этот вопрос заслуживает отдельного изучения.
Хотя Тургенева привлекают современные контексты святости, одновременно он понимает, что святость обыкновенного, или «неузнанного» в любой момент может быть поставлена под сомнение – его устраняет лишь временная дистанция. Или же святость может перейти в область комического осмысления – грань тут оказывается зыбкой. И все же Тургенев, причем задолго до Флобера, пробует свои силы в этой области. Здесь стоит вспомнить не только «Живые мощи», задуманные в ранний период творчества писателя, но и ряд его повестей о народе, которые примыкают к «Запискам охотника». Это повести, в которых проблема святости поднимается имплицитно, например, через актуализацию апокрифической истории о Герасиме и его льве [25] («Муму», датируется апрелем-маем 1852 г.), или же эксплицитно, обнаруживая себя в духовном поиске героя («Постоялый двор», завершена в ноябре-декабре 1852 г.).
В начале 1850-х годов Тургенев искал для себя «новую манеру», которая была связана прежде всего с героем фаустовского типа, но также он продолжал разрабатывать в новом ракурсе старые темы, в том числе тему народа. В этой связи его привлекала человеческая ситуация, которую он сам определял так: “Spiritus flat ubi vult”, или «Дух веет, где хочет» (Евангелие от Иоанна 3:8). В латинском варианте Тургенев нередко цитировал этот стих, который им самим понимался широко, не только и не столько в евангельских координатах. Речь могла идти о творчестве, о сверходаренности, как в случае со скульптором М. Антокольским10, или фраза могла употребляться в ироническом значении, если речь шла о неожиданном проявлении религиозного чувства, когда, например, Тургенев давал характеристики последователям популярного в 1870-е годы редстокизма11. Однако Тургенев не отрицал, видимо, и такого особого душевного состояния, граничащего с истинной святостью, когда речь заходила о религиозных откровениях, обнаруживающих себя в человеке предельно простом, не рефлексирующего сознания, которую уместно было описать через “Spiritus flat ubi vult”. Но эта ситуация, подчеркнем еще раз, Тургеневу казалась чрезвычайно сложной для художественного воплощения.
После завершения работы над «Записками охотника» и над повестями «Муму» и «Постоялый двор» Тургенев, все более разочаровываясь в способности современной литературы представить адекватно героя из народа12, все же предпринял попытку обратиться к сюжету, рассказывающему о религиозно-творческом чуде, случившемся с одним его крепостным. К сожалению, сюжет этот не получил в итоге художественного воплощения, но, на наш взгляд, оставил свой след на сдержанном отношении Тургенева к более позднему, по сравнению с его опытом, описанию «неузнанной святой» в «Простой душе» Флобера. Сам он только спустя двадцать лет в «Живых мощах» исправил те «ошибки», ввиду которых он ранее не дописал рассказ о Лукерье и отказался от неосуществленного замысла, о котором далее пойдет речь. Тогда, в 1850-е годы, он еще не нашел языка выражения для этой сложной темы.
Тургенев однажды представил своим друзьям сюжет о поэте-живописце из народа, который стал одним из главных действующих лиц в мистификации вокруг стихотворения «Христос воскресе!», или «Восторг души, или чувства души в высокоторжественный день праздника», имевшей место осенью 1853 г. [26]. Автором стихотворения, которое относится к началу 1840-х годов13, специалисты в настоящее время с высокой степенью вероятности называют самого Тургенева, хотя текст публикуется в академическом издании в разделе Dubia. В октябре 1853 г. Тургенев сначала П.В. Анненкову, а потом и Н.А. Некрасову поведал историю, как очень скоро обнаружилось, выдуманную им самим, о том, что некто «Николай Федосеев», который «вовсе не принадлежал к числу дворовых людей полуобразованных и с литературными притязаниями» [13, т. 2, c. 261], написал удивительное стихотворение, передающее светлое пасхальное чувство. Чуткий П.В. Анненков заподозрил, что Тургенев предложил им мистификацию. Но сейчас важно даже не это, хотя сама по себе попытка Тургенева создать еще один вариант характера человека «из народа» в новой стилистике (не в стилистике «Записок охотника») чрезвычайно любопытна. Важно, что Тургенев в качестве своего рода опорной точки выбирает для своего возможного рассказа историю о том, как в человеческой простоте вдруг может обнаружиться глубина света духовного.
Тургенев намеревается выстроить в своем новом сочинении про поэта-живописца именно такой характер. И неслучайно в письме к П.В. Анненкову он подчеркивал простоту своего потенциального персонажа. Вырисовывается контур нового простого героя, чья творческая и душевная одаренность ничем особенно не подкрепляется – своего рода вариант флоберовской «глуповатой и забитой служанки»: «Живет у меня в доме старый (54-летний) маляр, бывший живописец, по имени Николай Федосеев Градов. Он был дворовым человеком моей матери и по старости лет не пожелал идти на волю. Когда-то он учился рисованию и декоративной живописи у Скотти, потом жил на оброке, наконец попал обратно к маменьке, писал образа, срисовывал цветы, клеил коробки, подбирал шерсти по узорам, красил комнаты, крыши и даже заборы. Художническая искра в нем всегда была, и фигура у него не дюжинная, огромный нос, голубые глаза, выражение какое-то полупьяное, полувосторженное – впрочем, особенного в нем ничего не замечалось, считался он всегда в “последних”, ходил замарашкой, любил выпить и к женскому полу чувствовал поползновение сильное» [13, т. 2, c. 260–261]. «Повторяю, – подчеркивал Тургенев, – он совершенно простое существо, едва ли он когда-нибудь прочел какую-нибудь книгу» [13, т. 2, c. 261]. И то, как этот человек смог почувствовать и передать радость Пасхи, должно было, по мысли Тургенева, изумить П.В. Анненкова. «Вот тут пойдите, – пишет ему Тургенев, – с Вашей психологией, да с знанием человеческого сердца! Все это пустяки – каждый человек – неразрешимая загадка – и Spiritus flat ubi vult... <…> Я бы желал показать Вам на минуту фигуру моего живописца, чтобы дать Вам понять, до чего странна и удивительна вся эта вещь» [13, т. 2, c. 262].
Но мистификацию Тургенева разоблачают, причем П.В. Анненкова прежде всего поражает несоответствие между простотой поэта-живописца и глубиной его чувства и стиха (мастерство стиха). Тургенев еще немного поборется за этот сюжет, выдвинув на авторство пасхального стихотворения другого героя – «малоархангельского попа», но потом его оставит. Причем в письме к П.В. Анненкову от 20 ноября (2 декабря) 1853 г. заметит, что «неразрешимая загадка» того, как в человеке сказывается дух, теперь принимает интерес «более психологический», а сам «Федосеев представляет предмет для комика» [13, т. 2, с. 277; курсив наш – И.Б.]. Это любопытное замечание, поскольку, действительно, модальность этой высокой темы, как мы уже отмечали, может быть легко трансформирована.
В рассказе «Живые мощи» Тургенев уже знает, как писать о «неузнанной» святости. Он выводит повествование за пределы только бытового плана, подчеркивает в своей героине то, что она имеет отношение к мирам иным. В.М. Головко справедливо находит в образе Лукерьи отголоски «менталитета русского исихазма», а в портрете Христа из ее сна – черты «ассиста», отличающего православные иконы, что позволяет Тургеневу, по мысли исследователя, объединить в рассказе «небесное» и «земное», сделав их «однопорядковыми ценностными величинами» [27, с. 246]. Поэтому у Тургенева человек «не “теряется”, не отходит на “периферию”, не заслоняется Христом» [27, c. 247], но и, заметим от себя, не подменяет Христа, как в случае с Мышкиным у Достоевского. В сущности история Лукерьи – это история простой женщины, но одновременно избранницы, Христовой невесты. Это не невежество или иллюзия. Все происходящее, в том числе сны – живая реальность. В таком изображении «простого сердца» нет ничего сомнительного и уж тем более комического.
Что не удалось ему выписать в религиозном откровении простого, незатейливого поэта-живописца из нереализованного замысла начала 1850-х годов и что, возможно, не сложилось в раннем варианте «Живых мощей», вполне высказалось в образе Лукерьи, представляющей собой не столько несчастное создание, убогую, калеку, сколько страстотерпицу во имя любви ко Христу, которая вроде бы непонятно как стала такой – святой. А ее болезнь оказывается ее дорогой к Богу и с Богом.
История, рассказанная в «Живых мощах», явление не столько психологического порядка, своего рода аналитическое изучение природы «простой души», сколько рефлексия Тургенева о том, что такое “Spiritus flat ubi vult”, как бы помимо человеческого желания или нежелания признавать земные знаки Духа Святого. Напомним, что с этой задачей он не справился в свое время, но не оставил ее, а просто отложил почти на двадцать лет.
Теперь вернемся к вопросу о том, почему же Тургенев в 1877 г., когда уже случился в его творчестве рассказ «Живые мощи», не стал переводить «Простую душу» Флобера. В цитированном выше письме к М.М. Стасюлевичу он отказывал ей в «красоте». «Там одна глуповатая, забитая служанка кончает тем, что сосредоточивает свою любовь на попугае, которого она смешивает с голубем, изображающим Святой Дух... Вы можете себе представить крик цензуры!! – Остальные две (каждая в лист печатный) красоты необычайной» [13, т. 15, кн. 2, c. 68]. Красота здесь непосредственно связана со святостью, хотя об этом и не сказано напрямую. Любопытно, что рассуждения Тургенева в этом плане вполне корреспондируют с признаниями самого Флобера, которые он сделал задолго до написания «Трех повестей» в письме к Мари-Софи Леруайе де Шантепи от 30 марта 1857 г. Флобер сообщал своей корреспондентке, что для него «великое наслаждение – познавать, усваивать Истинное (Vrai) через посредство Прекрасного (Beau)» и что «идеальное состояние, рожденное такой радостью», ему представляется «своего рода святостью, возможно более высокой, нежели всякая иная, ибо она более бескорыстная» [28, c. 391]14.
Вероятно, речь у Тургенева идет о том, что образ «неузнанной святой» у Флобера выписан как раз на грани эстетической меры, что при неосторожном переложении может трансформироваться в противоположность – в комическую карикатуру15, а значит поставить святость под сомнение. Ведь в том, как Тургенев характеризовал в этом письме флоберовскую Фелисите, как раз и обнажаются все спорные нюансы образа Sancta Simplicitas. А сама повесть «Простая душа» Тургеневу, должно быть, не то чтобы не понравилась, но оказалась не близка, поскольку отказ в «красоте» в данном случае можно рассмотреть еще и как недоверие к материалу, к немотивированному сопряжению очень далеких знаков – попугая и Святого Духа16, – что при любой неточности, в том числе перевода, может вызвать обратный эффект. Кстати, Тургенев был не против перевода «Простой души» в принципе, но сам его делать не хотел. Наверное, после «Живых мощей» для него это было невозможно, да и опасно – для репутации Флобера в России.
На современном материале о проблеме мирской святости Тургенев сам не считал возможным размышлять так, как это делал Флобер. Он, как видим, прошел свой путь выработки сюжета и кристаллизации героя, а точнее – героини, которая бы могла в полной мере воплотить Sancta Simplicitas, без того чтобы сбиваться в область комического. А за сюжетом Флобера Тургенев как раз видел этот план, которого когда-то испугался у себя в истории про поэта-живописца. Неслучайно, по убедительному предположению Р.Г. Назирова, «Душечку» Чехова можно рассматривать как криптопародию на «Простое сердце» [23, c. 158], когда комическое начинает доминировать. Это как будто бы логическое продолжение флоберовской истории, когда чуть-чуть нарушена мера. Тургенев как раз этого и опасался: можно представить, если бы он начал переводить «Простое сердце», а получилась бы «Душечка».
Возможно также, что мы имеем дело здесь, что называется, с русским взглядом на предмет17, хотя едва ли это так. Например, хорошо известно горячее признание М. Горьким этой повести Флобера, когда он чуть ли не на просвет предлагал ее рассматривать – так она казалась ему гениально сделанной18. Поэтому позволим предположить, что это личное несогласие Тургенева с Флобером, несогласие с флоберовским литературным экспериментом. Тургенев принимает только те тексты Флобера, если говорить о «Трех повестях», в которых святость дистанцирована и архаизирована, в рамках стилизации и той манеры письма, которую Л.В. Пумпянский назвал в свое время «артистицизмом» [1, c. 245]. Пример «Простой души», в которой тема–сюжет–герой–нарратив были основаны на современности, но не апеллировали к традиции святости, в том числе национальной и конфессиональной, вызывала у Тургенева серьезные сомнения.
1 О нашедших в новой форме романа социально-философских идеях Тургенева см.: [12].
2 Так было обозначено в первой публикации легенды Флобера в «Вестнике Европы» М.М. Стасюлевичем (1877, № 4).
3 И.С. Приходько в комментариях к публикации перевода «Легенды» Флобера в переводе А.А. Блока отмечает: «Перевод Тургенева не удовлетворил и тех, кто понял и принял “Юлиана” Флобера. Эта неудовлетворенность сказалась в появлении в сравнительно короткий срок ряда новых переводов этой новеллы. Первым из них был анонимный перевод, вышедший отдельной книжкой в 1883 г. Второе издание этого перевода с некоторыми исправлениями выходит в издательстве В.И. Губинского в 1899 г. Из небольшой преамбулы на обороте титульного листа можно заключить, что сам издатель был автором перевода. Годом раньше, в 1898 г., появился перевод И. Ясинского. Затем, в 1908, 1910 и 1915 гг., выходят последовательно три издания перевода Н. Соболевского, а в 1908 и 1911 гг. – перевод Ин. Анненского. <…> Все эти переводы отмечены тенденцией преодолеть недостатки перевода Тургенева, приблизить перевод к тексту оригинала, как в смысловом отношении, так и в отношении стиля и ритма. <…> В этой ситуации в состязание вступил Блок» [14, c. 173].
4 «Для издания у Шарпантье, текст которого стал каноническим для последующих изданий, были приготовлены писцовые копии. B них есть небольшое количество изменений, но преимущественно незначительных (по почерку можно считать, что их сделал Флобер), и все-таки между основным текстом и известными беловиками Флобера немало разночтений» [6, c. 65].
5 Замысел «Живых мощей» относится ко времени до 1852 г.
6 В статье памяти Жорж Санд: «Всякий тотчас чувствовал, что находился в присутствии бесконечно щедрой благоволящей натуры, в которой всё эгоистическое давно и дотла было выжжено неугасимым пламенем поэтического энтузиазма, веры в идеал, которой всё человеческое было доступно и дорого, от которой так и веяло помощью, участием… И надо всем этим какой-то бессознательный ореол, что-то высокое свободное, героическое… Поверьте мне: Жорж Санд – одна из наших святых» [16, т. 11, c. 192].
7 Роман «Жанна» (“Jeanne”, 1844), повесть «Чертово болото» (“La Mare au diable”, 1846).
8 Подборка суждений И. Тэна и Жорж Санд представлена в примечаниях к изданию «Записок охотника» в серии «Литературные памятники» [17, c. 652–653].
9 Ситуация с проблемой мирской святости у Достоевского, не говоря уже о Гончарове, требует, конечно, особого разговора, мы ограничимся здесь только ссылками на соответствующие работы. В исследовании К.А. Степаняна подробно изучается словоупотребление «святой», («святая», «святые») по отношению к персонажам, размывание границ слова в эпоху всеобщего сомнения в вере и одновременно осознание писателем значимости примеров «земного пути святых из мирян» [19, c. 326], но и опасности уподобления себя Христу. Здесь можно вспомнить Гончарова, который в письме к С.А. Никитенко от 21 августа (2 сентября) 1866 г. также заявлял, что человек не должен «забываться» и «надевать божескую рясу на себя», но при этом его как писателя всегда привлекал в человеческом мире «в высшей степени идеалист» [20, c. 367, 366]. И его Обломов был отчасти таким, «не от мира сего», по верному замечанию К. Бланк, которая возводит героя к «византийской традиции исихазма», справедливо замечая при этом, что Обломов «не монах, а барин» [21, c. 477]. В.И. Мельник, вспоминая сближение Мышкина и Обломова самим Достоевским, отмечает «необыкновенную и непобедимую никакими обстоятельствами кротость» последнего [22, с. 56].
10 Отзыв о М. Антокольском в письме к П. Виардо от 26 (14) февраля 1871 г.: “Dans le courant de la journée, j’ai fait la connaissance d’un jeune sculpteur russe – Juif polonais le Wilna – doué d’un talent hors ligne. Il a fait une statue d’Ivan le Terrible – assis, négligemment vêtu, une bible sur les genoux, plongé dans une rêverie terrible et sinistre. Je trouve cette statue tout bonnement un chef-dʼoeuvre de compréhension historique et psychologique – et dʼune magnifique exécution. Et cela a été fait par un petit Juif, pauvre comme un rat dʼéglise, poitrinaire, nʼayant commencé à travailler – et à apprendre à lire et à écrire quʼà 22 ans – il avait été jusque-là un ouvrier... Spiritus flat ubi vult”. («Днем я познакомился с молодым русским скульптором из Вильны, обладающим незаурядным талантом. Он изваял Ивана Грозного, небрежно одетого, сидящего с библией на коленях, погруженного в грозное и мрачное раздумье. Я нахожу эту статую несравненным шедевром исторического и психологического проникновения, великолепного по исполнению. И сделано это совсем молодым человеком, бедным, как церковная крыса, болезненным, который начал заниматься ваянием и научился читать и писать только в двадцать два года; до этого он был рабочим... Spiritus flat ubi vult») [13, т. 11, c. 25, 312; оригинал на франц. яз.]. В статье Тургенева «Заметка <о статуе Ивана Грозного М. Антокольского>» звучит та же мысль: «Каким образом он возвысился до такого ясного понимания своей задачи – я, судя по прошедшему, не могу себе дать хорошенько отчета; но факт перед глазами, и поневоле приходится воскликнуть: “Spiritus flat ubi vult”» [16, т. 10, c. 260].
11 Резко иронические, если не сказать больше, контексты фразы “spiritus flat…” представлены в оценке А.П. Бобринского в письме к П.В. Анненкову от 16 (28) марта 1876 г., причем они характеризуют уже не творческую, а религиозно-проповедническую деятельность графа, последователя учения английского проповедника Г.-В. Редстока: «Мне сказывали, что недавно ко Льву Толстому заехал бывший министр путей сообщения, гр. А. Бобринский. Я его всегда знал за тупого, внутренне спутанного и неумного человека; но из него, говорят, выработался проповедник, чуть не пророк; он даже в Англии, говорят, на английском языке совращал разных рабочих и ремесленников на путь истины. Ну вот он такое впечатление произвел на Льва Толстого, что тот плакал, падал ему в ноги, принял его веру – и теперь видит в нем первого человека во всем мире! Вот уж точно: не из тучи, из навозной кучи. Spiritus flat ubi vult, что по-русски можно перевести так: ходи по лавкам и перди в окно; кого-нибудь да зашибешь» [13, т. 15, кн. 1, c. 64].
12 В письме к П.В. Анненкову от 25 мая (6 июня) 1853 г. Тургенев сообщает: «Мужички совсем одолели нас в литературе. Оно бы ничего; но я начинаю подозревать, что мы, так много возившиеся с ними, все-таки ничего в них не смыслим. Притом все это – по известным причинам – начинает получать такой идиллический колорит, что Геснеру должно быть очень приятно в гробу. Пора мужичков в отставку» [13, т. 2, c. 233].
13 Опубликовано в «Литературной газете» за 1840 год (13 апреля, № 30). Экземпляр этой газеты хранился в библиотеке в Спасском-Лутовинове.
14 В оригинале: “C’est une grande volupté que dʼapprendre, que de sʼassimiler le Vrai par lʼintermédiaire du Beau. Lʼétat idéal résultant de cette joie me semble une espèce de sainteté, qui est peut-être plus haute que lʼautre, parce qu’elle est plus désintéressée” (Flaubert G. Correspondance: Année 1857. URL.: https://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/correspondance/30-mars-1857-de-gustave-flaubert-%C3%A0-m-s-leroyer-de-chantepie/?year=1857&person_id=225).
15 О комическом в образе Фелисите см.: [15, с. 152–153].
16 Современный исследователь рукописей «Трех повестей» Флобера комментирует ситуацию со «святостью» попугая как трогательную, вполне высокую «иллюзию» героини: «L’émotion de Félicité s’exprime en utilisant les mots “ravie”, “pleura”, “s’attendrissait”, comme si elle se trouvait devant les saints. La taxidermie du perroquet a permis de concrétiser l’illusion de Félicité. Autrement dit quand le perroquet était vivant, Félicité n’apercevait que les points de ressemblance entre le perroquet et les hommes, par exemple comme un amoureux, un enfant, mais ce perroquet empaillé devient un saint pour elle, c’est-à-dire ressuscité comme une existence absolue qui transcende l’homme» [29, с. 259] («Эмоции Фелисите выражаются с помощью слов “обрадована”, “плакала”, “тронута”, как если бы она находилась перед святыми. Чучело попугая позволило воплотить в жизнь иллюзию Фелисите. Иными словами, пока попугай был жив, Фелисите видела в нем точки сходства между попугаем и людьми, например, возлюбленным, ребенком, но чучело попугая становится для нее святым, то есть воскрешается как абсолютное существование, превосходящее человека». Перевод наш – И.Б.).
17 «Возможно, образы двух героинь отражают разные концепции святости в католической и православной церкви. Однако эта проблема требует отдельного исследования» [15, c. 153].
18 «Помню, – “Простое сердце” Флобера я читал в троицын день, вечером, сидя на крыше сарая, куда залез, чтобы спрятаться от празднично настроенных людей. Я был совершенно изумлен рассказом, точно оглох, ослеп, – шумный весенний праздник заслонила предо мной фигура обыкновеннейшей бабы, кухарки, которая не совершила никаких подвигов, никаких преступлений. Трудно было понять, почему простые, знакомые мне слова, уложенные человеком в рассказ о “неинтересной” жизни кухарки, – так взволновали меня? В этом был скрыт непостижимый фокус, и,– я не выдумываю, – несколько раз, машинально и как дикарь, я рассматривал страницы на свет, точно пытаясь найти между строк разгадку фокуса» [30, c. 29].
Авторлар туралы
I. Belyaeva
Lomonosov Moscow State University; A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: belyaeva-i@mail.ru
Doct. Sci. (Philol.), Professor; Leading Researcher
Ресей, Moscow; MoscowӘдебиет тізімі
- Pumpyansky, L.V. Turgenev i Flober [Turgenev and Flaubert]. Pumpyansky, L.V. Klassicheskaya traditsiya: Sobraniye trudov po istorii russkoy literatury. [Classical Tradition: Collection of Works on the History of Russian Literature]. Moscow, 2000, pp. 489–505. (In Russ.)
- Gustave Flaubert – Ivan Turgenev. Correspondence. Text edited, prefaced and annotated by Alexandre Zviguilsky. Paris, 1989. 358 pp. (In French)
- Kafanova, O.B. Polilog ob iskusstve (Turgenev – Flober – Zhorzh Sand) [Polylogue about Art (Turgenev – Flaubert – George Sand)]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta tekhnologii i dizayna. Seriya 2: Iskusstvovedeniye. Filologicheskiye nauki. [Bulletin of the St. Petersburg State University of Technology and Design. Series 2: Art History. Philological Sciences]. 2010, No. 2, pp. 59–63. (In Russ.)
- Kafanova, O.B. Turgenev i Flober: tvorcheskiye diskursy [Turgenev and Flaubert: Creative Discourses]. I.S. Turgenev. Novyye materialy i issledovaniya [I.S. Turgenev. New Materials and Research]. Moscow, St. Petersburg, 2011, pp. 34–45. (In Russ.)
- Petrash, E.G. Turgenev v otsenke frantsuzskikh pisateley-sovremennikov [I.S. Turgenev in the Assessment of French Contemporary Writers]. Turgenev i liberalnaya ideya v Rossii [Turgenev and the Liberal Idea in Russia]. Perm, 2018, pp. 202–228. (In Russ.)
- Zhekulin, N.G. Turgenev – perevodchik Flobera: “Legenda o sv. Yuliane Milostivom” [Turgenev – Translator of Flaubert: “The Legend of St. Julian the Merciful”]. Slavica Litteraria. 2012, Vol. 15, No. 1, pp. 57–70. (In Russ.)
- Zvigilsky, A.Ya. Novyy perevod I. S. Turgeneva v novom zhurnale [New Translation of I.S. Turgenev in a New Magazine]. Dva veka russkoy klassiki [Two Centuries of Russian Classics]. 2019, No. 1, pp. 118–127. (In Russ.).
- Clemen, M.K. Turgenev – perevodchik Flobera [I.S. Turgenev – Translator of Flaubert]. Flaubert, G. Sobraniye sochineniy v 10 t. [Collected Works in 10 Vols.]. Vol. 5. Moscow, Leningrad, 1934, pp. 133–149. (In Russ.)
- Zaborov, P.R. Iz tvorcheskoy laboratorii Turgeneva-perevodchika (“Irodiada” G. Flobera) [From the Creative Laboratory of Turgenev the Translator (“Herodias” by G. Flaubert)]. Turgenev i yego sovremenniki [Turgenev and His Contemporaries]. Leningrad, 1977, pp. 129–135. (In Russ.).
- Adriana, Christian. Turgenev i Flober o poetike novogo romana [Turgenev and Flaubert on the Poetics of the New Novel]. Russkaya literatura [Russian Literature]. 2005, No. 2, pp. 3–17. (In Russ.).
- Golovko, V.M. Zhanrovaya spetsifika khudozhestvenno-filosofskogo ponimaniya cheloveka v turgenevskoy “studii” (“studii tipa”) [Genre Specificity of the Artistic and Philosophical Understanding of Man in Turgenev’s “Studio” (“Studio of the Type”)]. Golovko, V.M. I.S. Turgenev: iskusstvo khudozhestvennogo filosofstvovaniya [I.S. Turgenev: the Art of Artistic Philosophizing]. Moscow, 2018, pp. 127–141. (In Russ.)
- Golovko, V.M. “Novʼ” I.S. Turgeneva kak “roman-foresight”: sotsialno-filosofskaya ideya i zhanrovaya struktura [“Virgin Soil” by I.S. Turgenev as a “Foresight Novel”: Social and Philosophical Idea and Genre Structure]. Golovko, V.M. Filosofskiy modus slovesnogo tvorchestva [Philosophical Mode of Verbal Creativity]. Moscow, 2022, pp. 167–210. (In Russ.).
- Turgenev, I.S. Polnoe sobranie sochinenii i pisem: v 30 t. Pisma v 18 t. [The Complete Works and Letters in 30 Vols. Letters in 18 vols.]. Vol. 1–16. Moscow, 1982–2018. (In Russ.)
- Flaubert, G. Legenda o svyatom Yuliane strannopriimtse. Perevod A.A. Bloka. Publikatsiya Prikhodko I.S. [The Legend of Saint Julian the Stranger. Translation by A.A. Blok. Publ. by I.S. Prikhodko]. Yezhegodnik Rukopisnogo otdela Pushkinskogo Doma na 1991 g. [Yearbook of the Manuscript Department of the Pushkin House for 1991]. St. Petersburg, 1994, pp. 171–198. (In Russ.)
- Kafanova, O.B. Polemika o svyatosti v tvorchestve I.S. Turgeneva i G. Flobera [Controversy about holiness in the works of I.S. Turgenev and G. Flaubert]. Spasskiy vestnik [Spassky Bulletin]. Vol. 28. Orel, 2021, pp. 144–155. (In Russ.)
- Turgenev, I.S. Polnoe sobranie sochinenii i pisem: v 30 t. Sochineniya: v 12 t. [The Complete Works and Letters in 30 vols. Works in 12 vols.]. Moscow, 1978–1986. (In Russ.)
- Turgenev, I.S. Zapiski okhotnika [Sportsman’s Sketches]. Moscow, 1991. 678 p. (In Russ.)
- Belyaeva, I.A. Oblomov i Myshkin: shtrikhi k teme [Oblomov and Myshkin: Some Aspects of the Issue]. Vestnik RUDN. Seriya: Literaturovedeniye. Zhurnalistika [RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism]. 2021, Vol. 26 (3), pp. 457–465. (In Russ.)
- Stepanyan, K.A. Mirskaya svyatost v proizvedeniyakh Dostoyevskogo (Don Kikhot i Frantsisk Assizskiy) [Mundane Holiness in the Works of Dostoevsky (Don Quixote and Francis of Assisi)]. Stepanyan, K.A. Yavleniye i dialog v romanakh F.M. Dostoyevskogo [Phenomenon and Dialogue in the Novels of F.M. Dostoevsky]. St. Petersburg, 2010, pp. 232–342. (In Russ.)
- Goncharov, I.A. Sobraniye sochineniy: v 8 t. t. 8 [Collection of Works: In 8 Vols. Vol. 8]. Moscow, 1955. 576 p. (In Russ.)
- Blank, K. Myshkin i Oblomov [Myshkin and Oblomov]. Roman F.M. Dostoevskogo “Idiot”: sovremennoe sostoyanie izucheniya [Roman F.M. Dostoevsky’s “The Idiot”: the Current State of Study]. Moscow, 2001, pp. 472-481. (In Russ.)
- Melnik, V.I. I.A. Goncharov i F.M. Dostoevsky [I.A. Goncharov and F.M. Dostoevsky]. Vestnik slavyanskih kultur [Bulletin of Slavic Cultures]. 2010, No. 1 (15), pp. 51–63. (In Russ.)
- Nazirov, RG. Parodii Chekhova i frantsuzskaya literatura [Parodies of Chekhov and French Literature]. Nazirov, R.G. Russkaya klassicheskaya literatura: sravnitel’no-istoricheskiy podkhod. Issledovaniya raznykh let [Russian Classical Literature: A Comparative Historical Approach. Research from Different Years]. Ufa, 2005, pp. 150–158. (In Russ.)
- Litvinenko, N.A. Poetika “prostogo” vo frantsuzskoy literature XIX veka: nekotoryye osobennosti [Poetics of the “Simple” in French Literature of the 19th Century: Some Features]. Uchenyye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta [Scientific Notes of the Oryol State University]. 2019, No. 3 (84), pp. 133–139. (In Russ.)
- Dzyubenko, M.A. Vot tak lev sdelalsya sobakoy (Agiograficheskiye motivy v povesti I.S. Turgeneva “Mumu”) [That’s How a Lion Became a Dog (Hagiographical Motifs in I.S. Turgenev’s Story “Mumu”)]. Spasskiy vestnik [Spassky Bulletin]. 2006, Vol. 13, pp. 71–81. (In Russ.)
- Belyaeva, I.A. Ob odnom nerealizovannoy zamysle I. S. Turgeneva: na puti ot “staroy manery” k “novoy” [Switching from the “Old Manner” to a “New” one, or How Ivan Turgenev did not Realize an Ambitious Plan]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya [Moscow University Bulletin. Series 9. Philology]. 2018, No. 6, pp. 163–176. (In Russ.)
- Golovko, V.M. Cherty natsionalnogo arkhetipa v mifologeme Khrista proizvedeniy I.S. Turgeneva [Features of the National Archetype in the Mythology of Christ in the Works of I.S. Turgenev]. Problemy istoricheskoy poetiki [Problems of Historical Poetics]. 1994, Vol. 3, pp. 231–248. (In Russ.).
- Flaubert G. O literature, iskusstve i pisatelskom trude. Pisma. Statji. V 2 t. [On Literature, Art and Writing. Letters. Articles. In 2 Vols.]. Vol. 1. Moscow, 1984. 520 p. (In Russ.)
- Eri, Ohashi. Analyse des Manuscrits des Trois contes: la transcendance des hommes, des lieux et des choses chez Flaubert. Littératures. Rennes University 2, 2013. 446 p. (In French)
- Gorky, M. O tom, kak ya uchilsya pisatʼ [About How I Learned to Write]. Moscow, 1940. 47 p. (In Russ.)