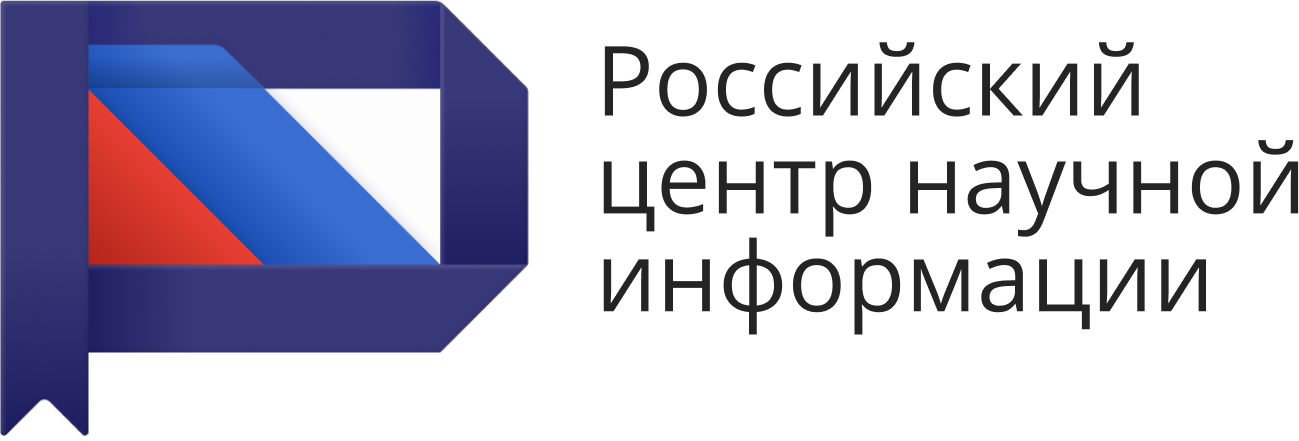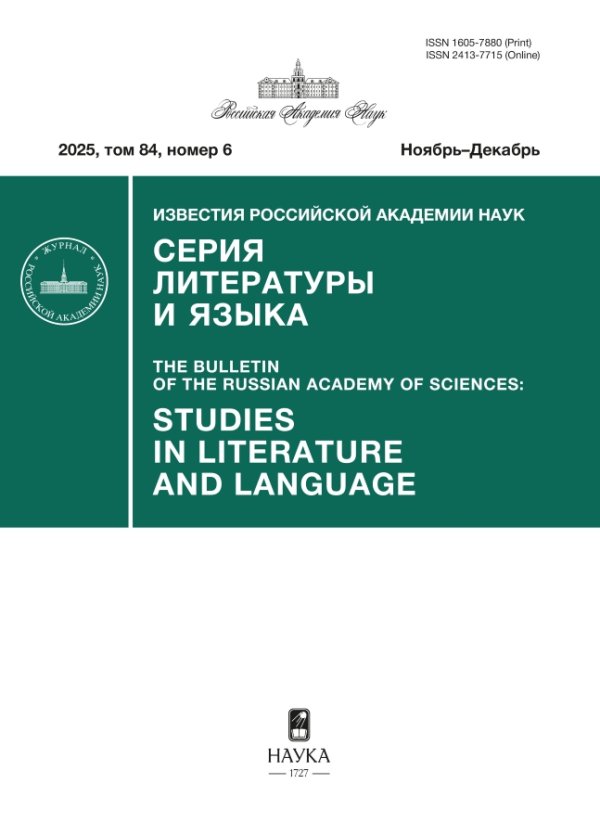«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…»: усадебный мир в романе Г. Ш. Яхиной «Дети мои»
- Авторы: Богданова О.А.1
-
Учреждения:
- Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН
- Выпуск: Том 83, № 5 (2024)
- Страницы: 53-63
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rcsi.science/1605-7880/article/view/271993
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1605788024050042
- ID: 271993
Полный текст
Аннотация
На материале знакового романа Г.Ш. Яхиной «Дети мои» (2018) в статье рассмотрены модификации «усадебного топоса» в русской литературе XX – начала XXI в., среди которых традиционные для отечественной классики коннотации (усадьба как рай на земле и территория любви и семьи; усадьба как гетеротопия; усадьба как универсалия), качества, возникшие в литературе советского периода (усадьба как убежище; бывшая владельческая усадьба как общественное достояние; усадьба как Китеж; усадьба как локус теургического творчества), а также впервые выявленные вариации (усадьба как Ноев Ковчег; усадьба как евразийский феномен; усадьба как «Уход в Лес»). Особое внимание уделено российской усадьбе XX в. как евразийскому феномену, появление которого в романе обусловлено ролью реки Волги, связующей судьбы нескольких народов: русских, немцев, татар, «киргизов» и др., – что открывает возможности для понимания усадьбы как элемента самостоятельной «евразийской цивилизации». Научная новизна – и в рассмотрении таких аспектов универсальности «усадебного топоса», как интернациональный характер хутора Гримм, мировая всеобщность феномена усадьбы в XX в., обращение к фольклору (немецким сказкам с их архетипической глубиной, равно присущей народам Востока и Запада). В связи с последним аспектом выявлены семантико-семиотические пласты, восходящие к биографии и творчеству И.В. Гёте, а также В.Я. Проппа. Важная часть исследования – усадьба как локус творчества в актуальном для XX в. теургическом ключе, что позволяет глубже понять природу социалистического реализма в СССР. Наконец, на материале русской и немецкой литературы XIX–XXI вв. начата разработка инновационной темы усадьба и лес. Использованы тезаурусный, контекстуальный, мифопоэтический и биографический методы. Выводы статьи получены с учетом уже существующих научно-исследовательских результатов по освещаемым вопросам.
Полный текст
В заглавие статьи вынесены первые строки опубликованного в СССР в 1923 г. «Марша авиаторов», во многом ставшие девизом раннесоветского времени. Эпоха 1920–1930-х годов – предмет художественного осмысления в романе Г.Ш. Яхиной «Дети мои» (2018), написанного в русле магического реализма, где реальность смешана с фантастикой и сказочные мотивы пронизывают все повествование.
В многочисленных интервью сама писательница указала на то, что, несмотря на выраженный национальный колорит – речь в романе идет о трагической истории поволжских немцев в XX в., – на первый план выдвинуты «общечеловеческие вопросы» (см.: [1]): рассказывая о российском немце, текст одновременно должен говорить «просто о человеке» (см.: [2]). Таким образом, Яхина задает масштабность своей художественной картине: «Мне хотелось поговорить о более общих вещах для нашей страны, <…> рассказать о советской сказке, которая <…> сбылась не так, как хотелось» (см.: [3]). При этом она отметила, что, работая над романом, «начитала» гораздо больше того, что непосредственно отразилось в ее тексте (см.: [3]).
В самом деле, основная тема романа – «самостояние маленького человека в споре с Большой Историей» [4] – притягивает не только российско-советскую, но и европейскую словесность первой половины XX в., прежде всего немецкую. Писательница сознательно стремилась создать «многослойное полотно: чтобы текст работал на разных уровнях» (см.: [5]), погрузив своих героев в широкий многовековой культурный контекст: «Культура, в которой мы вырастаем, становится нашими очками – именно через них мы смотрим на мир. Шульмейстер Бах вырос в немецкой культуре, и потому он наблюдает вокруг реалии раннего советского времени – образование пионерии, раскулачивание, коллективизацию, – а видит в происходящем сюжеты германских сказок, во всем узнает знакомые архетипы и мифологические образы <…>» (см.: [5]).
Справедливую мысль о «культурной предопределенности личности» (см.: [5]) можно распространить и на самого автора. Роман «Дети мои» – произведение русской литературы, в советское время получившей более широкий диапазон. Мы имеем в виду включение в ее состав этнически нерусских писателей, сохранявших ментальность своих народов в единстве многонациональной страны, скрепленном русской культурой, – таких как Чингиз Айтматов, Фазиль Искандер, Отар Чиладзе, Ион Друцэ и др. С одной стороны, Гузель Яхина – татарка, заявившая о своих национально-культурных корнях в предыдущем романе «Зулейха открывает глаза» (2015); с другой – волжанка, воспринимающая Волгу как главную артерию своей судьбы и все народы, живущие вдоль великой реки (в том числе поволжских немцев, татар и русских), – как близкие и родственные 1; наконец, она писательница общероссийского масштаба, виртуозно владеющая русским языком, на котором и пишет свои произведения, буквально пронизанные токами русской литературы XIX–XX вв. Важнейшая силовая линия, проходящая через все произведение Яхиной, – усадебная топика и мифология. Отнюдь не случайно, что сюжетно-композиционным центром «Детей моих», посвященных судьбе небольшого поволжского народа в раннесоветскую эпоху, стала уединенная владельческая усадьба – хутор Гримм, – на территории которой разворачивается практически все романное действие. Попробуем осмыслить этот факт.
В первую очередь отметим, что, вопреки устоявшемуся мнению об окончательной гибели русской усадьбы в огне революций и Гражданской войны 1917–1922 гг., «усадебный топос» под прессом катастрофических событий начала XX в. и затем в условиях СССР не был уничтожен в своих основах, а перешел в новые, непривычные формы: усадьбу-музей, усадьбу-дачу, усадьбу – художественную коммуну, усадьбу-экономию, усадьбу-лабораторию, усадьбу-колонию, усадьбу-школу, усадьбу – санаторий или больницу, усадьбу – дом отдыха или дом творчества, город-сад и т.д., – оставаясь активно-творческой средой, репродуцирующей базовые черты российской ментальности. В разных формах он присутствует в произведениях писателей советского периода – как обласканных властью, так и оппозиционных (Ф.В. Гладкова, А.П. Платонова, А.Н. Толстого, Б.Л. Пастернака, К.Г. Паустовского, И.А. Новикова, М.М. Пришвина, Г.И. Серебряковой, А.И. Солженицына, С.Д. Довлатова и мн. др.), – доказывая, что литература СССР, со всеми ее трагическими особенностями, – органическая часть русской культуры.
В романе «Дети мои» можно выявить сразу несколько модификаций «усадебного топоса», которые распадаются на три группы. В первую входят традиционные для русской классики XIX – начала XX в. коннотации: усадьба как рай на земле и территория любви (семьи); усадьба как гетеротопия; усадьба как универсалия. Вторая группа объединяет в себе качества, появившиеся в литературе советского периода: усадьба как убежище; бывшая владельческая усадьба как общественное достояние; усадьба как Китеж; усадьба как локус высокого трагического творчества (подробнее см.: [6]; [7]). Третья группа модификаций «усадебного топоса» в романе Яхиной впечатляет своей новизной и оригинальностью: усадьба как Ноев Ковчег; усадьба как евразийский феномен; теургический вектор усадьбы; усадьба как «Уход в Лес». Таким образом, в литературоведческом усадьбоведении открываются инновационные темы исследований, остро актуальные в современную эпоху. В настоящей статье мы коснемся лишь некоторых из них, в первую очередь включенных в третью группу модификаций «усадебного топоса» в романе Яхиной, а также взаимосвязанных с ними вариаций.
Итак, уединенный хутор Гримм стоит в дубовом лесу, немного поодаль от кромки волжского берега, противоположного тому, где находится поселок-колония Гнаденталь. Его границей становятся края большой поляны, а не искусственная ограда. Строения: старый, основательный, могучий жилой дом, амбары, навесы, хлев, ледник, колодезный сруб, – а также огород и большой яблоневый сад с тщательно побеленными стволами, составляют своеобразный симбиоз отшельнического скита, «лесного дома» из немецких волшебных сказок и русской мелкопоместной дворянской усадьбы. Сказочный колорит, восходящий к фольклорному сборнику братьев Я. и В. Гримм (1812–1815), преобладает уже при первом посещении хутора поселковым учителем Якобом Бахом: кухня со старинной утварью, в гостиной ломящийся от яств огромный стол, за которым хозяин – настоящий «Ослингский великан из древней саксонской легенды» 2 [8, с. 36]. При этом ест Удо Гримм по-татарски (руками, без приборов), на столе у него греется русский самовар, а у всех работников в усадьбе – «суровые монгольские лица» (см.: [8, с. 37–40]). Так сразу же задается единство самой что ни на есть западной Европы (немецкой) и самой настоящей дальней Азии (казахской, киргизской) на русской земле, в усадьбе, которая тем самым становится национальным фронтиром 3 и одновременно евразийским феноменом, соединяющим в своем пространстве евро-азиатские потоки.
Особенно ярко это проявится в дальнейшем течении романа, в родственном усадебном детстве немецкой девочки Анче и «киргизского» мальчика Васьки. При этом важно, что оба они – россияне, дети соединенных Волгой российских народов. Так, например, у немцев-колонистов «с детства воспитано в теле чувство большой реки» как «бессловесная любовь к родине» [8, с. 185–186], которой давно уже стала не далекая Германия, а приютившая их Россия. Со своей стороны, беспризорный мальчик Васька, в частых странствиях всегда державшийся берегов Волги как своей защитницы и кормилицы, одинаково бегло говорит на языках всех волжских народов: русском, башкирском, татарском, калмыцком, – а на хуторе Гримм быстро впитывает в себя язык высокой немецкой поэзии. Многонациональное российское единство также проявляется во внешнем облике усадебного «отшельника» Якоба Баха: этнический немец, он там «бороду русскую отпустил, косицу киргизскую» [8, с. 172].
Указанная черта «усадебного топоса» в романе «Дети мои» не является отличительным признаком советской эпохи: на имперских окраинах России (в Сибири, в Средней Азии, на дальнем Востоке, на Кавказе и т.д.) русские усадьбы задолго до революций XX в. существовали в условиях смешанной национальной среды (в частности, на границе башкирских степей в Оренбургской и Уфимской губерниях развивалась «усадебная культура» Аксаковых, Тимашевых и др.). Однако этот аспект русской (российской) литературно-усадебной топики не то что не изучен – в настоящей статье мы впервые обращаем на него внимание.
Новаторство романа «Дети мои» состоит в том, что национальный фронтир представлен здесь в особом ракурсе – как евразийский феномен, что получило актуальность именно в советский период с его усилившейся миграционной активностью между европейской и азиатской частями страны.Кроме того, именно с 1920-х годов, во многом как результат осознания советского опыта, в русской эмиграции развивается философия евразийства, видящая своеобразие России в сочетании европейской и азиатской историко-культурных парадигм (Г.В. Вернадский, П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, Г.В. Флоровский и др.). Таким образом, открывается возможность для понимания русской усадьбы как элемента самостоятельной «евразийской цивилизации» (см.: [9]).
В социальном аспекте в советскую эпоху произошла трансформация владельческой усадьбы в общественное достояние. У Яхиной этот переход показан как обветшание, одряхление старого хутора еще при жизни там Баха, после отъезда его любимых детей. Кроме того, изолированная от возможностей «большого мира» [8, с. 224] частная усадьба становится своего рода тюрьмой сначала для Клары, спрятанной отцом, как царевна в сказочной башне в лесу, а затем для ее дочери Анче, разлученной со сверстниками и не умевшей говорить чуть ли не до 7 лет. В то же время усадьба выступает убежищем от опасностей «безумного большого мира» [8, с. 289] в те страшные годы, когда и Гнаденталь, и окрестные селения с городами были разорены войнами, голодом, непродуманными общественными экспериментами. Здесь же всегда приветливо светились окна с занавесками, на подоконниках темнели старинные подсвечники, а в комнатах – чугунные подставки под лучины, манили стулья с резными спинками и соломенные кресла, теплела кафельная печь, красовались вязаные саше на стенах и успокаивал своей твердостью земляной пол, аккуратно посыпанный песком (см.: [8, с. 86]). Стабильность и защищенность обусловили возможность «детского рая» Анче и Васьки в течение нескольких лет; однако по мере их взросления убежище все больше напоминало тюрьму, и при первой возможности подростки добровольно покинули хутор ради широкой, погруженной в общественные интересы жизни в Покровске 4.
Усадьба в романе Яхиной символически исчерпала свой владельческий ресурс и стала хиреть вместе с оставшимся в одиночестве хозяином, часто думавшим: «Добрый спутник, товарищ и друг – старый хутор – как будет он жить без Баха?» [8, с. 450]. И решение пришло: усадьба переоборудуется в детский дом, вновь становится нужной, ухоженной, наполняется живыми голосами. Здесь отражен общий процесс переформатирования в первые советские десятилетия бывших владельческих усадеб в общественные учреждения: школы, музеи, колонии, больницы, санатории и т.д. Несмотря на новые функции, они сохраняли лучшие черты «усадебной культуры» и передавали их последующим поколениям, как это случилось с прибившимся к хутору Гримм маленьким беспризорником Васькой, а затем, по-видимому, и с обитателями учрежденного в усадьбе детского дома.
Культурная же значимость усадьбы в раннесоветские годы намного превышает социальную. Во-первых, в романе усадьба неоднократно сравнивается с кораблем: «…весь этот хутор, <…> давший защиту от бездушного и безумного большого мира <…> плыл кораблем – по поляне, по лесу и саду, по Волге, по миру» [8, с. 338]. А водворение 9-летнего Васьки как полноправного члена маленькой семьи окончательно превращает «уединенный хутор», до которого не долетает «прочая» жизнь, в подобие Ноева Ковчега: «он плыл <…> не нуждаясь более в берегах» [8, с. 397]. Как известно, библейская семантика Ноева Ковчега в том, что оттуда после Всемирного потопа вышли на берег спасенные дети обновленного человечества, призванные дать начало лучшему роду. Таким образом, усадьба, воспитавшая свободных и раскрепощенных, счастливых и гуманных, нравственных и образованных Анче и Ваську, выполнила (и в качестве детского дома продолжала выполнять) миссию по очищению и обновлению человечества, по сохранению того лучшего, что было им достигнуто.
Еще одно свойство «усадебного топоса» в романе Яхиной – универсальность. Вспомним, что в современной науке о литературе топосы – это «регулярно повторяющиеся в творчестве писателя и в системе культуры формулы, мифы, мотивы и другие разновидности художественного образа, имеющие особые пространственные характеристики и несущие устойчивые смысловые значения» [11, с. 15, 55]. По Э. Курциусу, «всеприсутствие в европейской литературе топосов» (см.: [12, с. 264]) свидетельствует о ее единстве. В свою очередь, «усадебный топос» русской литературы, помимо отчетливых черт «национальной аксиоматики» (см.: [13, с. 248]), является и культурной универсалией, доказательству чего посвящены компаративные исследования в рамках книжной серии «Русская усадьба в мировом контексте» (см. выпуски 2, 5, 7) 5.
Универсальность усадебной топики в «Детях моих» выражена в интернациональном характере хутора Гримм, о чем говорилось выше. Знаково и название, которое присваивает Бах устроенному в его усадьбе детскому дому – «имени Третьего Интернационала» [8, с. 452], чем маркируется мировая всеобщность феномена усадьбы в XX в. Третий Интернационал, или Коминтерн (1919–1943) отличался от первых двух отказом от национальных предпочтений во время исторических потрясений (войн, революций, стихийных бедствий), чем и вызвал в конце 1930-х годов репрессии в свой адрес со стороны советских властей, изменивших политический курс с мировой революции на национально ориентированное построение социализма в одной стране. С этим поворотом во многом связана и трагическая судьба немецкого коммуниста-утописта Гофмана, мечтавшего с помощью «замены сказочного фонда» [8, с. 195] переформатировать сознание трудящихся масс в Гнадентале, сгладив его национально-фольклорное своеобразие. Именно Гофману принадлежит наименование детского дома, данное Бахом в память о погибшем «ученике».
В связи с обращением к фольклору возникает и более глубокое понимание универсальности «усадебного топоса» в романе Яхиной: ведь пронизывающая все описания хутора сказочная образность восходит к «бродячим» сюжетам, мотивам и функциям, о которых писали знаменитые собиратели и исследователи народных сказок братья Гримм, А.Н. Афанасьев, А.Н. Веселовский, В.Я. Пропп и др. Так, отношение к сказкам самих «великих братьев», на творчество которых в первую очередь опирается современная российская писательница, «по сути космополитическое», «как к продукту в основе своей интернациональному: не случайно в названии, которое они дали своему изданию, отсутствует слово “немецкие”» [14, с. 1030]. В XIX в. сказки братьев Гримм органично вошли в русскую литературу благодаря переводами переложениям В.А. Жуковского, А.С. Пушкина и др., а также оглядке на них в сборнике «Народные русские сказки» Афанасьева (1855–1863).
Интерес к жанру сказки на рубеже XVIII–XIX вв. у И.В. Гёте, Ф. Шиллера, Новалиса и др. (все они входят в круг чтения гнадентальского учителя Баха) был связан со становлением в немецкой культуре понятия «народ» и желанием постичь «незамутненное сознание нации», уходящее корнями в универсальный, общий для всех этносов земли прамиф (см.: [14, с. 1005–1009]). С этим пониманием связано рождение у Гёте в 1810–1820-е годы концепции «мировой литературы» как исторического единства художественного процесса в странах Востока и Запада. Неслучайно сам Гёте, помимо основанных на немецком фольклоре баллад и драм, написал и «Западно-восточный диван» (1819), и «Китайско-немецкие времена года и дня» (1827). Вообще творчество великого немецкого поэта имеет первостепенное значение для Яхиной – потомственной преподавательницы немецкого языка и литературы: сам выбор имени главной героини первого романа писательницы «Зулейха открывает глаза», возможно, восходит к гётевской Зулейке из «Западно-восточного дивана»; в «Детях моих» упоминания, аллюзии и реминисценции из Гёте пронизывают весь текст. С томиком его стихов Якоб Бах практически не расстается. Поэтому неудивительно, что странная любовь скромного шульмейстера к прогулкам в открытом поле во время грозы находит объяснение в гётевской «Песне странника в бурю» (1772) из лирики периода «Бури и натиска», а также в его мемуарах «Из моей жизни. Поэзия и правда» (1810–1831) (см.: [15, с. 439]). Еще на заре романа с Кларой Бах читает ей на хуторе трагические баллады Гёте и Шиллера, «выросшие из жестоких сказок и мрачных легенд» [8, с. 62] и будто предопределившие горестную судьбу девушки. На полях томика Гёте они ведут тайную от отца Клары любовную переписку. Потеряв Клару и став отцом Анче, затем Васьки, герой не расстается с потрепанной книжкой ни в саду, ни в лесу, ни на берегу реки, вечерами вместе со своими детьми слушает любимые стихи на граммофоне, а перед арестом, обустроив усадьбу для детского дома, ставит на специально выструганную книжную полку тот самый томик Гёте…
Однако в наибольшей степени сказочный универсализм связывается с «усадебным топосом» раннесоветского времени благодаря фигуре замечательного ученого-фольклориста В.Я. Проппа, в романе Яхиной не упомянутого, но с очевидностью подразумеваемого (вспомним ее слова о том, что не все «начитанное» отразилось в тексте). Перечислим ряд совпадений. Начнем с того, что Пропп по происхождению поволжский немец, как и герой романа, а также практически его ровесник – человек советской эпохи. Он автор знаменитых книг «Морфология сказки» (1928) и «Исторические корни волшебной сказки» (1946), в незнании которых трудно заподозрить писательницу, много страниц посвятившую анализу сказочного творчества своих героев Баха и Гофмана. В первой из названных книг Пропп впервые исследовал структуру волшебных сказок на материале сборника Афанасьева, придя к выводу об однотипности их строения в фольклоре народов мира. Во второй монографии автор стремился «выяснить источники волшебных сказок в исторической действительности» [16, с. 4], в итоге найдя их в обрядово-мифологическом прошлом народов и придя к выводу о том, что «сказка интернациональна, и мотивы ее также в значительной степени интернациональны» [16, с. 21]. Изученное Проппом «всемирное сходство фольклорных сюжетов» [16, с. 316] легко прочитывается в романе «Дети мои»: уход героя в лес (имеется в виду эпизод волшебного блуждания Баха по дубовой роще вокруг хутора Гримм, когда он думает отказаться от уроков Кларе), пройденное там испытание и пережитая «временная смерть» (Бах чуть не утонул среди волшебно плавящихся дупел, веток, пней, белок и куниц, троп, валунов и т.п.) дают ему право на вступление в брак с дочерью «царя», заточившего свое дитя в «лесной башне». Таким образом, Бах проходит обряд инициации, женится на Кларе благодаря устранению «враждебного тестя» (Удо Гримма), наследует его имущество и сам становится «царем-магом», от которого зависит «благополучие полей и стад» [16, с. 290] окрестных жителей (вспомним о жизнетворческом, теургическом потенциале сказок, сочиняемых Бахом в усадьбе).
Пропп подробно разбирает на интернациональном сказочном материале и такие присутствующие в романе «Дети мои» мотивы, как «дом в лесу» (хутор Гримм), «накрытый стол» (трапеза Удо Гримма), «рождение ребенка» (Анче, в обстоятельствах зачатия которой от коллективного отца видны следы архаического промискуитета) (см.: [16, с. 101–102]), «красавица в гробу» (тело Клары в усадебном леднике), «волшебные предметы» («томик Гёте» и «утиная перина»), «переправа» (через Волгу из усадьбы в поселок Гнаденталь и обратно) и др. (см.: [16, с. 331–333]). При этом Бах замечает, что судьбы окружающих людей во многом складываются по лекалам, прочерченным в архетипических сюжетах сказок: так, например, участь Клары предопределена в старинной немецкой сказке «Дева Малейн», в начале XIX в. литературно обработанной братьями Гримм, а в первой трети XX в. переделанной самим Бахом в «Сказание о Деве-узнице».
Но роль Проппа в романе Яхиной этим не исчерпывается. Важна и биография ученого, отец которого Якоб (тезка героя Яхиной) родился в немецкой колонии Гуссенбах (усеченное название которой повторяется в фамилии героя Яхиной), или Линево Озеро, на берегу Волги недалеко от Саратова (параллель с вымышленным Гнаденталем Яхиной). Живя в Петербурге, в 1908 г. он купил недалеко от родного поселка землю, на которой построил усадьбу с просторным домом и большим яблоневым садом; соседи и родственники называли ее «хутор Пропп» (в «Детях моих» изображен «хутор Гримм»). Теперь большая семья каждое лето проводила в своем поместье, а после Февральской революции 1917 г. переселилась туда насовсем. Таким образом, в первое десятилетие советской власти (1917–1929) семейство Пропп проживало во владельческой усадьбе (как и Бах с Кларой на хуторе Гримм), что не было тогда уникальным случаем и предполагало «своеобразное окрестьянивание помещиков», лишившихся работников и слуг, при частичном сохранении «традиционного уклада жизни» (см.: [17, с. 234, 236]). «За это время Владимир Яковлевич был в отцовском имении несколько раз. В конце 1918 г. навестил больного отца, в марте 1919 г. приехал на похороны Якова Филипповича, остался здесь, работал на земле вместе со своими родственниками, устроился школьным учителем за 70 километров в деревне Голый Карамыш (Бах в романе “Дети мои” тоже школьный учитель. – О.Б.). <…> В 1929 г. летним отпуском прибыл с тем, чтобы уговорить мать <…> продать или сократить хозяйство» [18, с. 176–177].
Сам Пропп посвятил своей любимой поволжской усадьбе немало страниц в незаконченной автобиографической повести «Древо жизни» (1932). Привлекает внимание ряд совпадений с романом «Дети мои»: пол в жилом доме усадьбы «был <…> посыпанный песком»; автобиографический герой часто бывал «за рекой, через которую отправлялся на челноке, научившись грести одним веслом с плеча» (см.: [19, с. 65]); страшный эпизод со вспоротым животом беременной зайчихи (см.: [19, с. 69]) перекликается с кошмарным изображением нерожденных телят в романе Яхиной; круг чтения пропповского героя на хуторе аналогичен баховскому: Брентано, Тик, Новалис, Гердер, Лессинг, Шиллер, Гёте…; то же относится к ежедневному «писательскому зуду» обоих персонажей (см.: [19, с. 70–72]); вечерами на хуторах читались книги и слушался граммофон; наконец, особое значение придавалось окружающему «безмолвию» и цветущему белому яблоневому саду: герой Проппа «тонул в этих яблонях, <…> в этом цветущем царстве, корни которого уходили в пряную землю» [19, с. 143, 147], а для персонажа современного романа садовые яблоки не только «райские» плоды, но и главный символ здоровья, жизненной силы, вечной молодости, восходящий к волшебно-сказочным мотивам братьев Гримм, Шиллера и Пушкина 6. Стволы яблонь в саду Баха всегда тщательно побелены, а уход за ними он считает одним из главных дел своей жизни: «…все было – не зря. Сказки, которые писал. Дети, которых растил. Яблоки, которые выращивал…» [8, с. 432].
В последней фразе героя Яхиной прочитывается еще одна важная функция усадьбы в России XX в. – локус творчества. Действительно, маленький хутор Гримм становится в романе местом упоительных вдохновений, глубинных озарений и жизнетворческой силы искусства. О том, что в «деревне», в сельской усадьбе «слышнее голос лирный» и «живее творческие сны» [20, с. 27], писал еще автор «Евгения Онегина» (1823–1831). Однако большой литературный дар посещает Баха именно в годину бедствий, после слома традиционного хода усадебной жизни: пережитого ограбления и насилия, потери любимой женщины, необходимости в одиночку растить младенца, – и одновременно в момент беспощадного исторического вызова в стране и мире. Тем не менее здесь нет новаторского открытия. Аналогичная ситуация воссоздана в романе Пастернака «Доктор Живаго», обращенного к той же эпохе в истории России. В разоренной уральской усадьбе, где в конце Гражданской войны Юрий Андреевич поселяется вместе с Ларой и ее ребенком, героя поднимает на небывалую высоту волна религиозно-поэтического творчества, в результате чего Варыкино «приобретает значение мирового духовно-творческого центра» [7, с. 18]. Так и усадебный «отшельник» Якоб Бах каждый вечер писал сказки, в которых воплощалась глубинная, архетипическая основа народного миросозерцания. В итоге был создан корпус литературных сказок на основе фольклорных схем, усвоенных в общении с Кларой: на «народный сюжет в наивном Кларином изложении, – простой и емкий, как глиняный горшок», Бах накладывал «свои мотивы и образы, запахи и звуки, чувства и страсти» [8, с. 224]. Сказки наполняли его силой и жизненной энергией, одновременно становясь источником для преобразования внешней, окружающей действительности. Бах стал замечать, что написанные им сказки сбываются, поэтому «писал тщательно, кропотливо подбирая слова и выискивая самые звонкие эпитеты, самые яркие метафоры». В Гнаденталь стал ездить ежедневно: «едва окончив свежий текст, мчался через Волгу – проверить всходы пшеницы и ржи, подсолнечника и кукурузы, убедиться в сочности скошенного сена, справиться о привесах молодняка в звероферме, оценить яйценоскость кур и рыбный улов» [8, с. 250–251]. Мы видим, что усадьба, как локус истинного, бытийно-мифологически обусловленного творчества, становится в романе Яхиной чуть ли не сокровенным сердцем советской ойкумены, эпицентром жизненности. И снова– параллель с Пастернаком, воспевавшим «и творчество, и чудотворство» в усадьбе советского времени [21, с. 1239].
Однако сбываются не только счастливые, но и печальные сюжеты сказок Баха, передающие неизбывный трагизм человеческого существования на земле. И вообразивший себя демиургом бывший учитель, вслед за Гофманом впитавший изрядную долю самонадеянного утопизма, находит единственный «способ исправить жизнь: писать о добром» [8, с. 295], исключительно о добром. Встретив сопротивление сказочного материала («в любой сказке непременно возникали злые и мятежные силы – <…> они и запускали сюжет. В любой сказке <…> вставали в полный рост человеческие пороки и слабости, вершились преступления, случались крушения и катастрофы. В любой сказке дышала смерть» [8, с. 296]), Бах стал писать «другое», вымарывая «все темное, злое и негожее – оставляя только счастливое и радостное» [8, с. 297]. Не в этом ли слабость пресловутого социалистического реализма (как раз в 1930-е годы теоретически сформулированного в СССР) как утопического, выхолощенного искусства с перебитыми онтологическими корнями? Так Бах самолично, из лучших побуждений обескровливал собственный творческий потенциал.
Новые «благостные» сказки Баха отвергнуты Гофманом, сотрудничество героев прекращается (раньше Гофман добавлял к сказкам Баха идеологически выдержанные концовки, подписывал их комбинированным именем селькора Гобаха и отправлял для публикации в газету «Волжский курьер»), и вскоре разражается уже реальная непоправимая катастрофа: бунт жителей Гнаденталя против обременительных советских порядков, жестокая расправа с активистами и утопление Гофмана в водах Волги… «Советская сказка» «сбылась не так, как хотелось»: утопические «фальшивые» яблоки [8, с. 432] неизбежно вступали в конфликт с онтологической глубиной и трагической сущностью мироздания, явленными в древних народных сказках. В художественном мире романа «Дети мои» настоящие сказки, как и настоящие яблоки, сохранялись лишь на хуторе Гримм. И еще – в толстой книге «Сказки советских немцев», выдержавшей начиная с 1933 г. пять изданий, – в ней были перепечатаны все произведения «селькора Гобаха». Самая известная сказка сборника «Дева-узница» была поставлена в 50 театрах СССР, включая Саратов, Москву и Ленинград (см.: [8, с. 486]). Так лучшие плоды «усадебной культуры» с забытого волжского хутора духовно питали в советские десятилетия миллионы людей по всей стране.
Рассмотрим следующий аспект «усадебного топоса» в романе Яхиной – усадьба и лес. Номинально эта тема присутствовала в европейской литературе еще в творчестве Шиллера («Разбойники», 1781), Гёте («Гец фон Берлихинген», 1774), Пушкина («Дубровский», 1833), А.Н. Островского («Лес», 1871), П.И. Мельникова-Печерского («В лесах», 1875) и др., однако новая философско-мировоззренческая семантика была ей придана в русской и немецкой литературе лишь в первой половине XX в., в связи с революциями и двумя мировыми войнами. Теперь главная опасность для отдельного человека стала исходить от разросшегося, плохо управляемого, непредсказуемого социума, а природа, в том числе лес, все больше воспринималась в свете эскапизма, экзистенциальной подлинности и онтологической устойчивости. Исторические катаклизмы начала XX в., тотальная индустриализация и эскалация массового общества с его обезличиванием в 1920–1930-е годы обусловили философский поворот к субъектности, архетипически укорененной в природе, фольклоре и мифе. Одним из «сюжетов спасения» личности в ее бытийных основах стал в эти десятилетия метафорический «уход в лес» (см.: [22, с. 18]).
В русской литературе родственная связь усадьбы и леса впервые заявлена в пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня» (1896). В 1920–1950-е годы заданное направление в той или иной степени было продолжено М.М. Пришвиным («Кащеева цепь», 1927–1954), К.Г. Паустовским («Повесть о лесах», 1948), Л.М. Леоновым («Русский лес», 1953), Б.Л. Пастернаком(«Доктор Живаго», 1945–1955) и др. Аналогичное течение наблюдалось в немецкой словесности (Т. Манн «Волшебная гора», 1924; М. Хайдеггер «Проселок», 1949; Э. Юнгер «Уход в лес», 1951; и др.). Так, например, судьбоносные философские диспуты в знаменитом романе Манна наполняют залы и террасы «санаторской усадьбы» «Берггоф» [23, с. 310], затерянной посреди альпийских горных склонов, покрытых нескончаемыми хвойными и лиственными лесами.
В автобиографическом эссе Хайдеггера «Проселок» также встречаем созвучия с современным русским романом. По наблюдению А.В. Михайловского, «немецкий лес – то место, откуда берет начало философствование Хайдеггера», сам же философ «прочитывает истину как <…> просвет в лесу» [24, с. 115]. Хайдеггеровский проселок начинается от ворот дворцового сада (парка) и бежит через луга и поля к лесу, чтобы потом возвратиться домой. «Порой в глубине леса под ударами топора падал дуб, и тогда отец <…> пускался в путь напрямик через чащобу <…>, чтобы заполучить для своей мастерской причитающийся ему штер древесины» в перерывах от «службы при башенных часах и колоколах» [25, с. 391]. Обратившись к роману «Дети мои», вспомним и старый дубовый лес вокруг хутора Гримм, и обязанность Баха трижды в день звонить на пришкольной башне в колокол. Концовка же хайдеггеровского текста, посвященная наступившей тишине, говорит о тех, «кто безвременно принесен в жертву в двух мировых войнах» [25, с. 394]. Судьба многих российских немцев, безвинно выселенных из родного Поволжья в исправительно-трудовые лагеря Казахстана, позволяет применитьэти слова и к ним…
Э. Юнгер свое известное эссе-манифест «Уход в лес» – о «силе одиночки, окруженного неразличимыми массами» [26, с. 26], – написал во многом под впечатлением визита в лесную хижину Хайдеггера в горах Шварцвальда в 1948 г. Понимание «Леса» как территории спасения личности от уничтожения «пропагандой» и «насилием» [26, с. 54] переходит у Юнгера в идею «сопротивления»: «Ушедший в Лес <…> – это тот, кто, <…> сопротивляясь автоматизму, отказывается принимать его этическое следствие, то есть фатализм» [26, с. 40]. Эти слова можно отнести к Якобу Баху, герою романа «Дети мои», которого партийный начальник Гофман, первый читатель его сказок, восхищенно называл «философом» [8, с. 192]. Более того, Юнгер выдвигает в связи с призывом к «Уходу в Лес» знакомые нам по произведению Яхиной концепты «Страха» как «симптома нашего времени», «Корабля» как подвижного общего крова в условиях враждебной стихии, «мифа» как «вневременной реальности, возвращающейся в истории» (см.: [26, с. 43, 52–53]). «Корабль» и «Лес», по Юнгеру, это «временное» и «вневременное бытие» [26, с. 57]. Находим у Юнгера и архетипическую коннотацию «Леса» как места инициации, локуса «временной смерти», столь отчетливо выраженной в романе Яхиной: «…уход в Лес есть в первую очередь уход в смерть. Он ведет <…> через нее. Лес раскроется как сокровищница жизни в своей сверхъестественной полноте, если удастся пересечь эту линию» [26, с. 78]. Наконец, немецкий писатель говорит о «Лесе» как о «месте слов» [26, с. 141, 143], т.е. литературного творчества, благодаря тому, что здесь у человека происходит «встреча с собственным “Я”, <…> сущностью, которая питает все временные и индивидуальные явления» и способствует «изгнанию страха» [26, с. 124]. Убеждает и проведенная Юнгером аналогия между мироощущением ряда русских и немцев в середине XX в.: «…они обладают схожим опытом. Уход в Лес и для русского является центральной проблемой. Как большевик он пребывает на Корабле, как русский – он в Лесу» [26, с. 62].
Оговоримся сразу, что усадьба и лес в литературе XX–XXI вв. новая, совсем неразработанная тема, требующая большого самостоятельного исследования, которое впереди. В настоящей статье мы лишь обозначили ее содержание и границы исходя из ретроспективы, открывшейся при осмыслении романа Яхиной «Дети мои». В самом деле, как уже было сказано, хутор Гримм расположен на безлюдном берегу Волги, где простирается «бесконечный дремучий лес» [8, с. 78], на большой поляне без ограды, по сути составляя с лесом одно целое; жители усадьбы постоянно взаимодействуют с ним, занимаясь заготовкой дров, поиском материала для изделий, бортничеством, сбором грибов и ягод и т.п. Кроме того, хутор может быть трактован как сказочно-мифологический «дом в лесу» по классификации Проппа, место инициации героя, а сам окружающий дубовый лес – как сказочный: «Тропинки, что водят кругами! Тающие деревья!» [8, с. 51]. С исторической точки зрения, усадьба находится на монастырской земле, специально приобретенной в девственном, не тронутом человеком лесу как субституте рая в средневековой Руси (подробнее см.: [27, с. 60–61]).
Завершая анализ ряда черт «усадебного топоса» в романе «Дети мои», отметим многослойную сложность этого произведения, широту охвата исторического материала, глубину культурного слоя, зачерпнутого автором. Действительно, относительно короткий советский период в тысячелетней жизни России, судьбы советских людей – представителей нескольких народов (русских, поволжских немцев, татар, казахов), усадьбы советской эпохи в их своеобразии и новой значимости – включены писательницей в протяженный контекст мировой истории и мировой литературы, а еще – непостижимой тайны бытия, лежащей в основе всех проявлений человеческой воли. Думается, в этом и есть причина захватывающего интереса и неподдельно волнующего впечатления при чтении современного романа.
1 Ср.: «…весь этот роман можно назвать объяснением в любви к Волге. Потому что Волга – это полноценный персонаж книги» (см.: [1]).
2 Здесь и далее в цитатах курсив мой. – О.Б.
3 О русской усадьбе как социальном фронтире см.: [10]. Характерно, что в советскую эпоху социальный контраст в изображении усадебной жизни теряет свою актуальность. В усадьбе трудятся сами хозяева, что показано уже в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» (1945–1955) (см.: [7]).
4 До 1931 г. так назывался г. Энгельс в Саратовской обл.
5 Научная книжная серия «Русская усадьба в мировом контексте» URL: http://litusadba.imli.ru/bookseries (дата обращения: 02.02.2024).
6 Ср.: «Белоснежка и семь гномов» братьев Гримм, «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» Пушкина, драма «Вильгельм Телль» Шиллера.
Об авторах
О. А. Богданова
Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: olgabogda@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-7004-498X
Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
Россия, 121069, Москва, ул. Поварская, д. 25аСписок литературы
- Славуцкий А. Гузель Яхина: «Дети мои» – роман о молчащем поколении: интервью с Гузель Яхиной. [Электронный ресурс]: https://dzen.ru/a/YaymBeEiXETznKFM (дата обращения: 31.01.2024).
- Лащева М. «Хотелось поговорить о молчащем поколении»: интервью с Г.Ш. Яхиной // Огонек. 2018. № 21. С. 36.
- Подлыжняк Н. Гузель Яхина: «Дети мои» – разговор о советской истории и молчащем поколении. [Электронный ресурс]: https://mnogobukv.hse.ru/news/221111443.html (дата обращения: 31.01.2024).
- Басинский П. Гузель Яхина выпустила новую книгу. [Электронный ресурс]: https://rg.ru/2018/05/03/guzel-iahina-vypustila-novuiu-knigu.html (дата обращения: 31.01.2024).
- Кострова В. Интервью с Гузелью Яхиной. Апрель 2018 года. [Электронный ресурс]: https://book-hall.ru/event/Guzel_SHamilevna_YAkhina (дата обращения: 31.01.2024).
- Богданова О.А. Усадьба и дача в русской литературе XIX–XXI вв.: топика, динамика, мифология: монография. М.: ИМЛИ РАН, 2019. 288 с. (Серия «Русская усадьба в мировом контексте». Вып. 1).
- Богданова О.А. Усадьба и провинция в русской литературе XX века: семиотика, топика, динамика // Mundo Eslavo. № 22 (2023). С. 15–28.
- Яхина Г.Ш. Дети мои: роман. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. 493 с.
- Основы евразийства: сб. М.: Арктогея центр, 2002. 800 с.
- Богданова О.А. Усадьба, столица и провинция в романе Александра Потёмкина «Человек отменяется» (2007) // Enthymema. XXVIII. 2021. С. 51–64.
- Булгакова А.А. Топика в литературном процессе: учебное пособие. Гродно: ГрГУ, 2008. 106 с.
- Махов А.Е. Топос // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М.: Intrada – Изд-во Кулагиной, 2004. С. 264–266.
- Панченко А.М. Топика и культурная дистанция // Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. М.: Наука, 1986. С. 236–250.
- Дмитриева Е.Е. Великие братья и великие сказки // Гримм Я., Гримм В. Детские и домашние сказки: в 2 кн. Кн. 2. М.: Ладомир: Наука, 2020. С. 993–1056.
- Гёте И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда // Гете И.В. Собр. соч.: в 10 т. Т. 3. М.: Худож. лит., 1976. С. 9–718.
- Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2000. 336 с.
- Полякова М.А. Усадьба и ее владельцы после 1917 года: документы и воспоминания // Русская усадьба: сб. ОИРУ. Вып. 22 (38). СПб.: Коло, 2017. С. 230–240.
- Бочкарева Л.И. Владимир Яковлевич Пропп и его любимое Линево // Стрежень: научный ежегодник. Волгоград, 2009. Т. 7. С. 169–185.
- Пропп В.Я. Древо жизни. Автобиографическая повесть // Неизвестный В.Я. Пропп / сост., предисл. А.Н. Мартыновой. СПб.: Алетейя, 2002. С. 25–159.
- Пушкин А.С. Евгений Онегин: роман в стихах // Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 10 т. 4-е изд. Т. 5. Л.: Наука, 1978. С. 8–185.
- Пастернак Б.Л. Август: стихотворение // Пастернак Б.Л. Полн. собр. поэзии и прозы в одном томе. М.: Альфа-книга, 2017. С. 1238–1239.
- Кнорре Е.Ю. «Ушедший в Лес» в поисках «кладовой солнца»: философия спасения Михаила Пришвина // Вопросы философии. 2023. № 11. С. 16–22.
- Манн Т. Волшебная гора: роман / пер. с нем. В. Станевич, В. Куреллы. М.: АСТ, 2019. 896 с.
- Михайловский А.В. Мартин Хайдеггер – философ на лесной тропе // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». 2009. № 2 (6). С. 112–121.
- Хайдеггер М. Проселок // Хайдеггер М. Исток художественного творения: избр. работы разных лет / пер. с нем. А.В. Михайлова. М.: Академический проект, 2008. С. 391–394.
- Юнгер Э. Уход в Лес / пер. нем. А. Климентова; под общей ред. А.В. Михайловского. М.: AdMarginem, 2020. 148 с.
- Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. Изд. 3-е. М.: Согласие: Новости, 1998. 356 с.