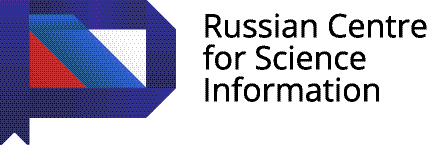Functional and semantic characteristics of silence in the fairy tale
- 作者: Rzepnikowska I.1
-
隶属关系:
- Nicolaus Copernicus University
- 期: 卷 20, 编号 1 (2022)
- 页面: 7-28
- 栏目: Articles
- URL: https://journals.rcsi.science/1026-9479/article/view/295801
- DOI: https://doi.org/10.15393/j9.art.2022.10322
- ID: 295801
如何引用文章
全文:
详细
This article focuses on the silence of a fairy tale hero, i. e. a deliberate withholding from speaking that is a metonymic manifestation of a symbolic death. The aim of the study was to determine the meanings of silence that are representative of this type of narration and to indicate their probable mythical and ritual connotations. Research materials included mainly Polish and Eastern Slavic tales of a sister whose silence constitutes a precondition for bringing her brothers, previously turned into birds, back into human form. The analysis showed the use of a semantic component essential to silence required to keep a secret and impossibility of revealing the truth. If a spell can be a result of a parental curse, then suspending communication becomes a form of maintaining bonds with the brothers killed by words. It can also be interpreted as a reflection of the speech behaviour of the parents, who violate the basic folk ethics of the word. The analysed narratives preserved the magical functions of silence as the assurance of the effectiveness of objects made in complete silence (in the given example — shirts made for the spellbound brothers). Nevertheless, in other variants of plot type 451, the silence of the heroine is the most significant precondition for her own existential transformation, with numerous narratives describing the multi-stage nature of the rite of passage (a marriageable girl → a married woman → a newly delivered mother → a mother). In this indirect way the fairy tale reveals the limits of female communicative behaviour in folk culture. In order to present the essence of the liminality of the given story’s heroine, the “stasis” category was used, which helped to correlate her (and any other fairy tale protagonist) basic existential experience with a temporal dimension of human existence construed as regular consecutive time passages and pauses, moments of inactivity (stasis).
全文:
Со времен публикации работы В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки» (1946) вопрос инициации как обрядовой основы указанной в заглавии его книги жанровой разновидности фольклорной прозы в принципе не подлежит сомнению. При этом сам исследователь не ограничивался сугубо узким пониманием посвящения как обрядового включения юношей в социальную общность по достижении ими половой зрелости1, указывая на прямое или опосредованное сохранение сказкой еще ряда рудиментов свадебного обряда [Пропп, 2000: 262–271], а также шаманской инициации [Пропп, 2000]. Кроме того, ряд соображений на счет актуализации в сказке элементов свадебного обряда содержится в работах Е. М. Мелетинского [Мелетинский, 1998; 2005: 204–207]. В свою очередь, на возможность соотнесения путешествия сказочного героя в «тридесятое царство» со странствиями шамана, отправляющегося в иной мир вслед за душой умершего или больного, указал Ежи Василевски [Wasilewski, 1979: 213–230]2. Все исследователи сходятся во мнении, что центральным структурным элементом любой инициации является акт символической смерти посвящаемого в его прежнем состоянии и возрождение к новой жизни в статусе полноправного и полноценного члена социума, что осуществлялось посредством ряда испытаний.
Вместе с тем далеко не все аспекты данной проблематики разработаны в достаточно удовлетворительной степени. К ним, в частности, относятся метонимические репрезентации символической смерти героя / героини волшебной сказки, а также их мифо-ритуальные параллели. Среди них весьма значимое место занимают различные формы коммуникационной изоляции персонажей, в том числе молчание.
Это чрезвычайно многоаспектное явление (см.: [Богданов: 7–69]), в традиционной культуре оно понимается как форма ритуального поведения человека, заключающаяся в намеренном воздержании от речи [Агапкина: 292]. Следовательно, определяемое таким образом молчание предполагает объективно существующую способность к речевому общению, что отличает его от немоты, т. е. отсутствия или утраты такой способности. К неговорению близко состояние тишины, свойственное окружающему миру, например, во время переходных праздников календарного цикла. Как показали исследования, существует целый ряд семиотически близких молчанию явлений, соотносимых со смертью и сферой потустороннего, например, мрак, ночь, тайна, глухота, неподвижность, забвение, являющихся реализацией общей идеи отсутствия, исчезновения, исчерпания, вакуума [Арутюнова], [Трубачев: 101–103].
Исходя из вышесказанного, в настоящей статье мы попытаемся раскрыть актуализируемые волшебной сказкой значения молчания, определить его место в сюжетно-композиционной структуре данных нарративов, выявить функции, выполняемые в ходе действия, а также указать на его предполагаемые обрядовые и шире — мифологические параллели. Кроме этого, мы постараемся выявить связь молчания с осознанием временной обусловленности человеческого существования как важнейшего экзистенциального опыта сказочного героя.
Основным материалом для анализа послужили польские и восточнославянские варианты сюжетного типа ATU 451 “The Maiden Who Seeks Her Brothers” (Т 451 “Siedem kruków”, СУС 451 «Братья-вороны (лебеди, волки)»3). Они — довольно редкий случай, когда молчание персонажа определяет ход событий в целом, а также детерминирует появление семантически близких ему атрибутов сферы смерти: тишины, тайны, мрака, неподвижности. Для уточнения некоторых выводов привлекаются сказки типа ATU 300 “The Dragon-Slayer” (Т 300 “Królewna i smok”), ATU 710 “Our Lady’s Child” (T 710 “Wychowanka Matki Boskiej”, СУС 710 «Крестница Богоматери»), ATU 706 “Salvatica” (T 706 “Salvatica”).
Соотношение молчания с пространственным перемещением героя
Молчание персонажа наблюдается, в сущности, в вариантах любого сказочного сюжета, на самых разных этапах развития действия, в том числе уже в его начале, т. е. в завязке. Это связано с отправкой или отсылкой героя / героини из дома, мотивированными какой-либо бедой, недостачей [Пропп, 1969: 38–39]. Как правило, воздержание сказочного странника от речи, высказываний обусловлено объективными обстоятельствами путешествия и одновременно как бы дублирует свойства преодолеваемого пространства, которое по ряду признаков соотносится с потусторонним миром. Само перемещение героя обычно детально не описывается, а он сам не испытывает дорожных неудобств, не нуждается в удовлетворении каких-либо потребностей (в пище, во сне и т. п.) [Лихачев: 336–340]4. Лишь достижение им некоего остановочного пункта и встреча с его обитателем порождает необходимость общения.
В качестве примера приведем повествования о сестре, отправившейся на поиски братьев, обращенных в птиц (или животных, например волков [Federowski: 86, 193]). Девушка идет лишь ночью (“sidem lat i sidem dni”, T 451 [Kolberg, 1962 (1867): 123]), не натыкаясь ни на какие человеческие поселения, добирается до разбойничьей хижины, где она получает указания относительно дальнейшего путешествия. Отсутствие каких-либо звуков, как и отсутствие речи, иногда прямо сопряжено с блужданием героини (например, по лесу), в мифологическом сознании осмысляемом как единственная возможность передвижения по иному миру, лишенному любых пространственных ориентиров [Криничная]: «Когда царевна очутилася в этих дремучих, непроходимых лесах, то она питалась разными ягодами и фруктовыми плодами и съестными кореньями» (СУС 451 [Сказки И. Ф. Ковалева: 155], [Kolberg, 1962 (1875): 40]; см.: Т 706 Salvatica [Polaczek: 230])5.
Молчание — залог освобождения от проклятия
Сущность воздержания от речи героини нарративов типа 451 меняется коренным образом с момента, когда оно становится основополагающим условием возвращения братьям человеческого облика, притом условием, принятым их сестрой вполне сознательно, без каких-либо сомнений. Как знак самопожертвования девушки, отказ от речи является еще единственной возможностью поддержать связь с умерщвленными словом братьями, принадлежащими с тех пор уже иному миру [Sulima: 83]6. В контексте поисков ответа на вопрос об актуализации сказкой разных аспектов молчания обратим внимание на записи, в которых птичье существование детей — результат родительского проклятия7. Как можно предполагать, последствия высказанного по неосторожности или злонамеренно негативного пожелания распространяются также на дочь, молчание которой становится чем-то вроде зеркального отражения речевого поведения родителей. Попутно добавим, что родители, проклинающие детей, нарушали строгое социально-культурное табу. Все же самым сильным и опасным проявлением действенной силы слова считалось материнское проклятие, что объяснялось передаваемым ею даром жизни [Engelking: 145–146].
Молчание и необходимость скрывать тайну
Девушка, жаждущая освободить юношей от проклятия, помещается на высокой горе, где, кроме соблюдения запрета касаться земли и запрета говорить, ей необходимо воздержаться от каких-либо движений, а также от принятия пищи и напитков [Kolberg, 1962 (1867): 123]8. Кроме того, местом обособления бывает гнилое дерево [Kolberg, 1982 (1881): 20], верх сосны [Federowski: 87, 194], стог сена [Kolberg, 1962 (1875): 40], лес [Kowerska: 601], [Карнаухова: 310], шалаш [Кретов: 47], остров [Сказки И. Ф. Ковалева: 157]. Героиня продолжает молчать даже тогда, когда ее в жены берет некий богатый человек, случайно оказавшийся на месте ее испытания, а затем, когда на свет появляются дети. Этот момент выглядит особенно драматичным, поскольку, желая соблюсти обещание спасти братьев, она терпеливо переносит клевету свекрови, обвиняющей ее в рождении не детей, а животных [Kolberg, 1962 (1875): 37, 41], [Kolberg, 1964 (1891): 91–92], [Kolberg, 1982 (1881): 21], [Kowerska: 601], [Siewiński: 82], [Ciszewski: 130] или в канибализме [Karłowicz, 1887: 232], [Karłowicz, 1888: 58–59]. Едва ли не поплатившись жизнью, молодая мать сначала изолируется (напр., ее замуровывают живьем [Kolberg, 1962 (1867): 126], потом попадает под топор палача, затем на виселицу, наконец, ее пытаются сжечь на костре как ведьму. Именно в этот момент заканчивается срок наказания юношей и вся история завершается счастливым финалом.
В нескольких вариантах, преимущественно в восточнославянских, еще одним условием отмены заклятия братьев является необходимость приготовить им одежду, материалом для шитья / плетения которой служат растения, добываемые сестрой в каком-либо заповедном месте, например на кладбище. Это, в свою очередь, является поводом для обвинений немотствующей рукодельницы в колдовстве [Bajki Warmii i Mazur: 52], cp.: [Кретов: 47], [Сказки И. Ф. Ковалева: 157], [Сказки Куприянихи: 67]. Небезынтересно отметить, что в данном случае для сказки оказались актуальными магические функции молчания, соблюдение которого считалось залогом действенности изготовляемых предметов или выполняемых работ [Агапкина: 294].
Обратим внимание на пассивность девушки, безвольно и безмолвно поддающейся действиям жениха, а потом его матери, в первую очередь мотивированной незаконченным еще процессом возвращения братьям человеческого облика9. На всем протяжении действия она должна держать в тайне причину своего неговорения, что выявляет еще один аспект значения слова «молчание», а именно — «“умолчанное” молчанием» [Богданов: 67]. Как полагает К. Богданов, «всякое молчание есть молчание о чем-то, молчание кого-то, к комуто» [Богданов: 55], т. е. оно изначально содержит компонент тайны, необходимости что-то скрывать, не выявлять10, чем усиливается значимость именно такого коммуникационного поведения героини сказок типа ATU 451.
Молчание — важнейшее условие перемены экзистенциального статуса сестры
Дальнейший ход событий показывает, что воздержание от речи, в сущности, является важнейшим условием перемены экзистенциального статуса сестры заколдованных юношей, которые таким образом выполняют роль наставников в процессе ее инициации. За этот период девушка достигает очередных стадий жизненного цикла женщины: молодая девушка (невеста) → замужняя женщина → положница → мать11.
Как и в случае родительского проклятия, на этот раз мы имеем дело с контрастным сопоставлением молчания героини с чрезмерной речевой экспрессией клевещущей на нее свекрови. Любое ложное обвинение недопустимо уже на уровне народной этики слова, строго регламентирующей общение целым рядом запретов и предписаний. В данном случае оно является тем более тяжким, поскольку подвергаются сомнению прокреативные способности невестки, в традиционной культуре синонимичные продлению жизни как таковой в самом широком смысле слова12. Вполне правдоподобно, что в данном случае произошло переосмысление сказкой ритуального обмана, на котором в частности основаны ритуалы защиты новорожденного ребенка от нечистой силы, болезней и других опасностей. Особо действенным считалась подмена младенца животным, что на вербальном уровне осуществлялось громким произнесением информации о рождении волчонка, дьяволенка и т. п. Кроме того, в колыбель первый раз старались класть какое-нибудь животное существо — кошку или курицу [Толстая: 110–111].
Не исключено также, что неблагосклонность сказочной свекрови к невестке — результат сказочной трансформации народных представлений о послеродовой «нечистоте» и, следовательно, вредоносном воздействии роженицы на окружающую среду, являющемся источником ее социальной изоляции. Считалось, что до восстановления физиологических функций организма, т. е до появления первой послеродовой менструации, женщина является «пустой», «порожней» (pol. “pusta”, “próżna”), поэтому любые контакты с растительностью или хозяйственными животными могли привести к потере благополучия и удачи13. В результате, строжайшим ограничениям подлежали ее коммуникативные потребности14, но прежде всего она должна избегать действий, сущность которых состояла в инициировании новых дел. Лишь возобновление менструального цикла у роженицы означало ее возрождение в новом облике, исполненном мощной жизненной энергии [Wasilewski, 2010: 170].
Молчание — клевета (оскорбление) — уменьшение — исчерпание
Вполне правдоподобно, что неприятием свекровью невестки, оборачивающимся клеветой на нее, отмечена смена семейного статуса матери мужа как хозяйки дома. В биологическом плане это означает завершение детородного периода в ее жизни, а в экзистенциальном — постепенное приближение к концу земного существования [Кабакова: 205]. В итоге актуализируется комплекс представлений, связанных с идеей умирания как исчерпания, уменьшения, исчезновения, являющихся базовыми значениями лексемы «таять», которая этимологически близка к лексеме «молчать» [Трубачев: 100–105].
Формы коммуникативной изоляции и идея воспроизведения исходной стадии Бытия
На сюжетном уровне рассматриваемой нами сказки интриги свекрови иногда приводят к замуровыванию молодой матери заживо в стену, заключению в темнице, оборачивающемся в первую очередь невозможностью чувственного, в частности — зрительного, восприятия мира. В ряду остальных чувств (слуха, обоняния, вкуса, осязания) зрение, несомненно, выделяется как доминирующая способность человека, благодаря которой он познает окружающий мир и самого себя [Ясинская: 47]. Поскольку видеть, смотреть — согласно мифологическому мышлению — симметрично по отношению к быть видимым, прекращение этого действия соотносится с представлением об умирании как исчезновении не только объектов восприятия органов чувств, но и воспринимающего их субъекта15.
Обрядовые корни коммуникативной изоляции сказочного героя исследователи находят в помещении инициируемого в пещеру, шалаш, яму, специально построенную избушку, что на символическом уровне тождественно пренатальной темноте материнской утробы, как частного воспроизведения исходной стадии Бытия (эмбриогенез Бытия), представляемой именно как бесконечная ночь и мрак [Eliade, 1997: 59]. В конечном счете, однако, героиня рассматриваемого нарратива покидает место насильственного уединения, но лишь для того, чтобы очередной раз подвергнуться опасности смерти — на этот раз от рук палача (“jaż kat zamierzył się mieczem” [Kolberg, 1962 (1867): 158]). Несомненно, этим усиливается драматизм повествования, поскольку именно в этот момент заканчивается срок наказания братьев. Все же только после всех этих испытаний она вступает, наконец, в предписанные ей социально-культурные роли матери, супруги и сестры, т. е. становится полноправным и полноценным членом социума.
Соотношение настоящей немоты и глухоты с состоянием забвения
Кроме молчания, как говорилось выше, — намеренного или принудительного — в сказочных нарративах есть примеры, когда герой / героиня на самом деле лишаются дара речи, в частности, в наказание за нарушение правил поведения16. Сказанное отразилось в истории о воспитаннице Богоматери, иногда утратившей лишь способность говорить, а иногда еще и слышать (T 710 “Wychowanka Matki Boskiej”, ср.: [Kolberg, 1964 (1888): 178], [Kozłowski: 319]). Попутно отметим, что в традиционной культуре слух и речь считались основными средствами передачи информации, поскольку доминирующими были вербальные формы коммуникации. Тем не менее потеря уже одной из перечисленных способностей делала общение невозможным, поэтому немота и глухота отождествлялись [Gołębiowska-Suchorska: 43]. Притом интересно, что лишение героини слуха и речи напрямую связано с ее провинностями: непослушанием и ложью [Kozłowski: 319]17. Сначала она нарушила запрет входить в комнату, в которой, как выяснилось, лежал окровавленный Христос, а затем не созналась в совершенном действии. В данном случае немота и глухота являются еще симптомами психического расстройства героини, т. е. состояния забвения и лишения ее ума, на что прямо указывает повествователь18:
“A widzisz żeś zaglądała, — mówiłam ja tobie: nie zaglądaj Anusiu do tego pokoiku, bo cię na niskości rzucę i rozum i pamięć ci odejmę <…>”. Matka Boska wzięła i zrzuciła Anusię na ziemię i posadziła ją na stogu siana. Darowała jej tylko złotą szczoteczkę i złoty grzebiuszczek. Jak Anusia usiadła na stogu, tak jej Matka Boska zrobiła, że została niemą i głuchą” [Kozłowski: 319].
Ход событий в сказках типа 451 и 710 показывает, что на сюжетно-композиционном уровне мнимость или истинность молчания не играет существенной роли и они могут развиваться по одной и той же схеме: замужество немой героини, рождение детей (ребенка), клевета свекрови и т. д.
Связь молчания с лиминальной ситуацией
Требование молчать может появиться на любой стадии жизненного цикла героя сказки, однако всегда соотносится с неким его лиминальным состоянием, предзнаменующим обретение им нового облика19. Именно с такой отчетливо обозначенной переходностью мы сталкиваемся в некоторых вариантах сюжета Т 300 “Królewna i smok” (ATU 300 “The dragon-slayer”). Сказанное касается первой послебрачной ночи, во время которой требование молчать сопровождается, как можно полагать, запретом физической близости молодых супругов в его наиболее витальном, т. е. прокреативном аспекте. Знаком чистоты их отношений является лежащий между ними меч [Kopernicki: 13–14]. Необходимость воздержания от полового акта в брачную ночь известна в различных славянских зонах, причем его отсрочка длится от одного дня до двух и более недель [Гура: 523–525]. В рассматриваемой сказке упоминаемые запреты касаются лишь первой совместной ночи, поскольку значима не столько продолжительность запрета, сколько само воздержание от действия, акт обездвижения в момент, когда должна осуществиться перемена. Это соответствует выделенной Ежи Василевским категории stasis, которая является именно таким обездвижением, застоем между отрезками регулярного течения времени20.
Молчание и временная обусловленность человеческого существования
В заключение наших наблюдений отметим, что необходимость молчания, а также прекращение остальных видов коммуникации (слух, зрение, осязание), воздержание от любых движений появляется на разных стадиях жизни сказочного героя, этим может маркироваться какая-либо лиминальная ситуация, всегда знаменующая потенциальную возможность перехода на новый уровень существования.
Бывают, однако, и такие случаи, когда молчанием отмечен не каждый новый этап жизни героя по отдельности, а все совместно. Тем не менее в любом случае связь неговорения с инициацией не утрачивается, поскольку не утрачивается его связь со временем, а точнее — с его определенной концепцией, согласно которой оно представляется как непрерывно следующие друг за другом моменты регулярного течения и моменты неподвижности, статичности. Молчание, как и любые другие формы коммуникативной изоляции, соответствует именно выделенной Василевским категории stasis. Важно подчеркнуть, что переход на какой угодно следующий жизненный уровень, обусловленный, как правило, отказом от предыдущей стадии существования, непременно требует реактуализации исходной стадии Бытия, т. е. шаг вперед в сущности немыслим без шага назад, в мифическое прошлое [Wasilewski, 2010: 348–354]21. В результате представляется возможным несколько уточнить главный экзистенциальный опыт сказочного героя, который, сталкиваясь со смертностью и сексуальностью, осознает преходящий характер человеческого существования, его временную обусловленность.
Список сокращений
ATU — Uther Hans-Jörg. The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography. Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2004. Part 1.
T — J. Krzyżanowski. Polska bajka ludowa w układzie systematycznym.
Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum, 1962. T. 1.
СУС — Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка / сост. Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. Л.: Наука, 1979.
1 По мнению исследователя, сказка «сохранила не только следы представлений о смерти, но и следы некогда широко распространенного обряда, тесно связанного с этими представлениями, а именно — обряда посвящения юношества при наступлении половой зрелости. Этот обряд настолько тесно связан с представлениями о смерти, что одно без другого не может быть рассмотренo» [Пропп, 2000: 37].
2 Уточнив ряд наблюдений Арнольда ван Геннепа, Мирча Элиаде выделяет несколько типов обрядов посвящения: первый — в этнологической литературе их принято называть «ритуалами половой зрелости», «племенной инициацией», «инициацией возрастных групп» — включает коллективные ритуалы, осуществляющие переход от детства к юности. Второй — все виды обрядов посвящения в секретные общества, братства, союзы. И, наконец, третий, наиболее важный, связан с мистической профессией, для примитивных обществ — шамана или знахаря [Eliade, 1997: 16–17].
3 Несколько вариантов, перечисленных в указателях сказок, не принадлежат к реализациям сюжетного типа 451 [Gawełek: 70–71], [Ончуков: 486–487 (№ 218)], [Никифоров: 185–188 (№ 80)], [Карнаухова: 243–245 (№ 96)], [Русские народные сказки: 289–291 (№ 59)]. Подробнее об этом см.: [Добровольская, 2020: 124–126]. Очень плохо опознается вариант сказки 451, записанный от Самоделовой [Самоделова: 102]. В нем, правда, есть колдовство мачехи и желание сестры вернуть братьям исконный облик, но отсутствует весь комплекс мотивов, связанных с молчанием, плетением рубашек и т. д. [Добровольская, 2020: 130–131].
4 Отметим, что на композиционно-сюжетном уровне путешествие героя — своего рода перерыв во времени, пауза в развитии сюжета, что могла бы передать одна из сказочных речевых формул передвижения («долго ли, коротко ли, далеко ли, близко ли»).
5 В похожих обстоятельствах воздержания от речи, обусловленного свойствами окружающей среды, оказалась девушка, не желавшая выйти замуж за своего отца. В наказание у нее отсекают руки, а ее саму зашивают в медвежью шкуру и отправляют в лес (T 706 “Salvatica” [Polaczek: 230]).
6 О молчании как форме поддержания связи с потусторонним миром см.: [Sulima: 83].
7 Птичьий облик юношей может быть еще результатом неосторожности сестры [Карнаухова: 310], [Сказки Куприянихи], [Русский фольклор в Литве: 167] или колдовства мачехи (колдуньи) [Сказки И. Ф. Ковалева: 28], [Фольклор Судогодского края: 22], [Самоделова: 102], что особенно характерно для русских реализаций данного сюжета [Добровольская, 2020: 127].
8 Гора как вариант иного мира — довольно распространенный сказочный мотив, широко использованный, например, в вариантах сюжетного типа СУС 301 А, В «Три подземных царства» [Лызлова: 37], кстати, не слишком верно отраженный в названии данного сюжета [Лызлова: 34]. Наша героиня иногда вынуждена подняться на гору самостоятельно, что оказывается возможным благодаря специальным приспособлениям (косточкам, перьям) (ср.: [Siewiński: 81], [Malinowski: 228]).
9 Сторонниками gender studies и queer studies пассивность немотствующей героини сюжетного типа АТU 451 рассматривается в контексте создаваемых сказкой гендерных стереотипов [Jorgensen], [Williams].
10 Об употреблении глагола молчать в значении «сохранять, держать что-либо в тайне» см.: [Трубачев: 102].
11 В славянской традиции многоступенчатость женской инициации отразилась, например, на возрастной дифференциации рукодельных работ [Бернштам: 194]. В свою очередь, интересные материалы, подтверждающие морфологическую сложность данного явления у разных неславянских общностей, приводит Мирча Элиаде: «…например, у Яо инициация начинается с первым менструальным циклом, возобновляется и усугубляется во время первой беременности и завершается после рождения первого ребенка» [Eliade, 1999: 224].
12 О соответствии женского плодородия и плодородия земли в традиционном сознании см.: [Шумов, Черных: 177].
13 О существовании запретов на разные виды хозяйственных работ и церковных обрядов для женщин в период «нечистоты», относящейся как к месячным, так и послеродовым очищениям, писала Т. А. Листова [Листова].
14 В народной культуре речевое поведение женщин подлежало некоторым ограничениям, в сущности, на всех стадиях жизненного цикла. Особо в этом плане выделяется девушка-невеста. Как персонажу с неустановившимся статусом, ей предписывалось если не молчание, то его ослабленные или преобразованные формы: молчаливость, запрет на пение и пляску [Невская: 131].
15 Соответственно, согласно мифологическому мышлению, достаточно человеку закрыть глаза, чтобы выключить канал зрительного восприятия, который перестает «работать в обе стороны». На первичность определения признаков смерти глаголом «исчезать» (а не «умирать») обратил внимание В. Н. Топоров [Топоров: 49–50].
16 Приведенный пример позволяет корректировать положения В. Добровольской, утверждающей, что немота в сказках, в отличие от других типов инвалидности, всегда является мнимой [Добровольская, 2018: 195].
17 Убедительным примером связи ушей и слушания с повиновением, что в польском языке обыгрывается еще на звуковом уровне (uszy, słuchanie, posłuszeństwo), является народная загадка: “Dlaczego mamy po dwa uszy, a tylko jedne usta? Abyśmy więcej słuchali, niż mówili” [Почему у нас два уха и один рот? Чтобы мы больше слушали, чем говорили].
18 Об ушах как вместилище памяти см.: [Paluch: 113].
19 Лиминальности, т. е. центральной фазе обрядов перехода, а также особым свойствам инициируемых субъектов, не укладывающихся в рамки каких-либо классификаций в культурном пространстве, наибольшее внимание уделил В. Тэрнер [Тэрнер: 169–170].
20 Категория stasis — основополагающий элемент концепции времени, разработанной Ежи Василевским для раскрытия сущности обрядовых и бытовых табу, а в конечном счете для любых моментов перехода (польск. “momenty przejścia”). Ее образным воплощением являются колебания маятника, в работе которого наблюдаются чередующиеся друг за другом фазы подвижности и статичности. Именно эти мгновения застоя между отрезками регулярного течения времени исследователь предложил назвать stasis [Wasilewski, 2010: 347–348].
21 Эту мысль о необходимости возвращения инициируемого субъекта в мифическое прошлое, в illud tempus для осуществления перехода на новый экзистенциальный уровень высказал Мирча Элиаде [Элиаде, 1999], а ее интерпретационный потенциал раскрыл в своих исследованиях Ежи Василевски [Wasilewski, 2010].
作者简介
Iwona Rzepnikowska
Nicolaus Copernicus University
编辑信件的主要联系方式.
Email: iwo@umk.pl
ORCID iD: 0000-0001-5709-1714
PhD, Professor, Head of Department of Slavic Literatures
波兰, Torun参考
- Agapkina T. A. Silence. In: Slavyanskie drevnosti. Etnolingvisticheskiy slovar’: v 5 tomakh [Slavic Antiquities. The Ethnolinguistic Dictionary: in 5 Vols]. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya Publ., 2004, vol. 3, pp. 292–296. (In Russ.)
- Arutyunova N. D. Silence: Contexts of Use. In: Logicheskiy analiz yazyka. Yazyk rechevykh deystviy [Logical Analysis of the Language. The Language of Speech Actions]. Moscow, Nauka Publ., 1994, pp. 106–117. (In Russ.)
- Bernshtam T. A. “Cunningly Wise Needlewoman” (Embroidery-Sewing in the Symbolism of Girlish Adulthood Among the Eastern Slavs). In: Zhenshchina i veshchestvennyy mir kul’tury u narodov Rossii i Evropy [Woman and the Material World of Culture Among the Peoples of Russia and Europe]. St. Petersburg, Peterburgskoe Vostokovedenie Publ., 1999, pp. 191–249. (In Russ.)
- Bogdanov K. A. Ocherki po antropologii molchaniya. Homo tacens [Essays on the Anthropology of Silence. Homo tacens]. St. Petersburg, Russian Christian Humanitarian Institute Publ., 1998. 352 p. (In Russ.)
- Gura A. V. Brak i svad’ ba v slavyanskoy narodnoy kul’ture: semantika i simvolika [Marriage and Wedding in Slavic Folk Culture: Semantics and Simbolics]. Moscow, Indrik Publ., 2012. 936 p. (In Russ.)
- Dobrovol’skaya V. Е. Representation of Diseases and Deformities in Russian Magic Fairy Tales. In: Obratnaya storona Luny, ili chto my ne znaem ob invalidnosti: teoriya, reprezentatsii, praktiki [The Other Side of the Moon, or What We Don’t Know About Disability: Theory, Representations, Practices]. Moscow, MBA Publ., 2018, pp. 178–220. (In Russ.)
- Dobrovol’skaya V. Е. The Plot ATU 451 “Swan-Brothers” in the Repertoire of Russian Storytellers: Folklore Tradition and Western European Author’s Fairy Tale. In: Skazka v fol’klore, literature i iskusstve: traditsionnoe i novoe [Fairy Tale in Folklore, Literature and Art: Traditional and New]. Moscow, Gosudarstvennyy institut iskusstvovedeniya Publ., 2020, pp. 121–135. (In Russ.)
- Kabakova G. I. Mother. In: Slavyanskie drevnosti. Etnolingvisticheskiy slovar’: v 5 tomakh [Slavic Antiquities. The Ethnolinguistic Dictionary: in 5 Vols]. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya Publ., 2004, vol. 3, pp. 203–208. (In Russ.)
- Karnaukhova I. V. Skazki i predaniya Severnogo kraya [Fairy Tales and Legends of the Northern Region]. Moscow, Ob”yedinennoe gumanitarnoe izdatel’stvo Publ., 2009. 544 p. (In Russ.)
- Kretov A. I. Voronezhskie narodnye skazki i predaniya [Voronezh Folk Fairy Tales and Legends]. Voronez, 2004. 310 p. (In Russ.)
- Krinichnaya N. A. “In those Swamps of the Quicksand…”: a Mythologeme of Wandering in the Light of Transitional Rites (Based on Materials from Northern Russian Mythological Stories). In: «Uvedi menya, doroga»: sbornik statey pamyati T. A. Bernshtam [“Road, Take Me Away”: Collected Papers Dedicated to T. A. Bernshtam]. St. Petersburg, Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography of the Russian Academy of Sciences Publ., 2010, pp. 172–180. (In Russ.)
- Listova T. A. “Uncleanness” of a Woman (Childbirth and Menstruation) in the Customs and Ideas of the Russian People. In: Seks i erotika v russkoy traditsionnoy kul’ture [Sex and Eroticism in Russian Traditional Culture]. Moscow, Ladomir Publ., 1996, pp. 151–174. (In Russ.)
- Likhachev D. S. Poetika drevnerusskoy literatury [The Poetics of Old Russian Literature]. Moscow, Nauka Publ., 1979. 360 p. (In Russ.)
- Lyzlova A. V. Fairy Tales About Three Kingdoms (The Copper, Silver and Gold Ones) in Popular Literature and Russian Folk Tradition. In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics], 2019, vol. 17, no. 1,
- pp. 26–44. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1554121813. pdf (accessed on September 1, 2021). doi: 10.15393/j9.art.2019.5921 (In Russ.)
- Meletinskiy Е. M. Marriage in a Fairy Tale (Its Function and Place in the Plot Structure). In: Meletinskiy Е. M. Izbrannye stat’ i. Vospominaniya [Meletinsky Е. M. Selected Articles. Memories]. Moscow, The Russian State University for the Humanities Publ., 1998, pp. 305–317. (In Russ.)
- Meletinskiy E. M. Geroy volshebnoy skazki. Proiskhozhdenie obraza [A Hero of the Magic Fairy Tale: The Origins of the Image]. Moscow, St. Petersburg, Akademiya Issledovaniy Kul’tury Publ., Traditsiya Publ., 2005. 242 p. (In Russ.)
- Nevskaya L. G. Silence as an Attribute of the Sphere of Death. In: Mir zvuchashchiy i molchashchiy. Semiotika zvuka i rechi v traditsionnoy kul’ture slavyan [The Sounding and Silent World. Semiotics of Sound and Speech in the Traditional Culture of the Slavs]. Moscow, Indrik Publ., 1999, pp. 123–134. (In Russ.)
- Nikiforov A. I. Severnorusskie skazki v zapisyakh A. I. Nikiforova [North Russian Fairy Tales in the Notes of A. I. Nikiforov]. Moscow, Leningrad, Academy of Sciences of the USSR Publ., 1961. 386 p. (In Russ.)
- Onchukov N. E. Severnye skazki: Arkhangel’skaya i Olonetskaya gg. [Northern Fairy Tales: Arkhangelsk and Olonets Provinces]. St. Petersburg, Tipografiya A. S. Suvorina Publ., 1908. 643 p. (Proceedings of the Imperial Russian Geographical Society, the Department of Ethnography; vol. 33). (In Russ.) 20.Propp V. Ya. Morfologiya skazki [Morphology of a Fairy Tale]. Moscow, Nauka Publ., 1969. 168 p. (In Russ.)
- Propp V. Ya. Istoricheskie korni volshebnoy skazki [Historical Roots of the Magic Fairy Tale]. Moscow, Labirint Publ., 2000. 336 p. (In Russ.)
- Russkie narodnye skazki Karel’skogo Pomor’ya [Russian Folk Fairy Tales of Karelian Pomorie]. Petrozavodsk, Kareliya Publ., 1974. 423 p. (no. 59). (In Russ.)
- Russkiy fol’ klor v Litve [Russian Folklore in Lithuania]. Vilnius, Vilnius University Publ., 1975. 432 р. (In Russ.)
- Samodelova E. A. Skazki Tsentral’noy Rossii v kontse XX — nachale XXI vekov v zapisyakh E. A. Samodelovoy i druzey-fol’kloristov: teksty [Fairy Tales of Central Russia at the End of the 20th — Beginning of the 21st Centuries in the Notes of E. A. Samodelova and Fellow Folklorists: Texts]. Ryazan, 2013. 214 p. (Ryazan Ethnographic Bulletin: no. 51, vol. 1). (In Russ.)
- Skazki I. F. Kovaleva [Fairy Tales of I. F. Kovalev]. Мoscow, The State Literary Museum Publ., 1941. 358 p. (Chronicles of the State Literary Museum; book 11). (In Russ.)
- Skazki Kupriyanikhi [Fairy Tales of Kupriyanikha]. Voronez, Voronezhskoe oblastnoe knigoizdatel’stvo Publ., 1937. 270 p. (no. 13). (In Russ.)
- Tolstaya S. M. Magic of Deception and Miracle in Folk Culture. In: Logicheskiy analiz yazyka. Istina i istinnost’ v kul’ture i yazyke [Logical Analysis of Language. Truth and Truthfulness in Culture and Language]. Moscow, Nauka Publ., 1995, pp. 109–115. (In Russ.)
- Toporov V. N. Notes on Two Indo-European Verbs of Dying. In: Issledovaniya v oblasti balto-slyavyanskoy dukhovnoy kul’tury. Pogrebal’nyy obryad [Studies in the Field of Balto-Slavic Spiritual Culture. Funeral Rite]. Moscow, Nauka Publ., 1990, pp. 47–53. (In Russ.)
- Trubachev O. N. Silence and Melt. On the Need for a Semasiological Dictionary of a New Type. In: Problemy indoevropeyskogo yazykoznaniya. Etyudy po sravnitel’no-istoricheskoy grammatike indoevropeyskikh yazykov [Problems of Indo-European Linguistics. Sketches on the Comparative Historical Grammar of Indo-European Languages]. Moscow, Nauka Publ., 1964, pp. 100–105. (In Russ.)
- Turner V. Simvol i ritual [Symbol and Ritual]. Moscow, Nauka Publ., 1983. 277 p. (In Russ.)
- Fol’klor Sudogodskogo kraya [Folklore of the Sudogodsky Region]. Moscow, The State Republican Center of Russian Folklore Publ., 1999. 336 p. (no. 22). (In Russ.)
- Shumov K. E., Chernykh A. V. Pregnancy and Childbirth in the Traditional Culture of the Russian Population of the Kama Region. In: Seks i erotika v russkoy traditsionnoy kul’ture [Sex and Eroticism in Russian Traditional Culture]. Moscow, Ladomir Publ., 1996, pp. 175–191. (In Russ.)
- Yasinskaya M. V. Eyes and Vision in the Language and in the Traditional Folk Culture of Slavs. In: Slavyanovedenie, 2014, no. 6, pp. 47–57. (In Russ.)
- Bajki Warmii i Mazur [Fairy Tales of Warmia and Mazur]. Krakow, Polish Scientific Publishers Publ., 1956. 194 p. (In Polish)
- Ciszewski S. Krakowiacy. Monografia etnograficzna [Cracovians. Ethnographic Monograph]. Krakow, Published by the Author, 1894, vol. 1. 383 p. (In Polish)
- Eliade M. Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne, narodziny mistyczne [Initiation, Rites, Secret Societies, Mystical Birth]. Krakow, Znak Publ., 1997. 190 p. (In Polish)
- Eliade M. Mity, sny i misteria [Myths, Dreams and Mysteries]. Warsaw, KR Publ., 1999. 258 p. (In Polish)
- Engelking A. Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa [The Curse. The Work on Folk Magic of the Word]. Wroclaw, FUNNA Publ., 2000. 312 p. (In Polish)
- Federowski M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej [Belarusian People in Lithuanian Ruthenia]. Krakow, Academy of Learning Publ., 1897, vol. 1. 509 p. (In Polish)
- Gawełek F. Przesądy, zabobony, środki lecznicze i wiara ludu w Radłowie w pow. Brzeskim [False Belief, Superstitions, Remedies and the Faith of the People in Radłów in the District of Brzeski]. In: Materiały AntropologicznoArcheologiczne i Etnograficzne [Anthropological, Archeological and Ethnographic Materials], 1910, vol. 11, pp. 48–106. (In Polish)
- Gołębiowska-Suchorska A. Głuchota / głuchy [Deafness / Deaf]. In: Słownik polskiej bajki ludowej [The Dictionary of Polish Folk Tales]. Torun, The University of UNC Publ., 2018, vol. 2, pp. 40–44. (In Polish)
- Jorgensen J. Queering Kinship in “The Maiden Who Seeks Her Brothers”. In: Transgressive Tales: Queering the Grimms. Detroit, Wayne State University Press Publ., 2012, pp. 69–90. (In English)
- Karłowicz J. Podania i bajki ludowe zebrane na Litwie [Folk Fairy Tales and Fairy Tales Collected in Lithuania]. In: Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej [Collection of News on National Anthropology], 1887, vol. 11, pp. 229–293. (In Polish)
- Karłowicz J. Podania i bajki ludowe zebrane na Litwie [Folk Fairy Tales and Fairy Tales Collected in Lithuania]. In: Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej [Collection of News on National Anthropology], 1888, vol. 12, pp. 1–59. (In Polish)
- Kolberg O. Dzieła wszystkie. Kujawy [All Works. Kuyavia]. Wroclaw, PTL Publ., 1962 (1867), vol. 3, part 1, pp. 112–144. (In Polish)
- Kolberg O. Dzieła wszystkie. Krakowskie [All Works. Krakowskie]. Wroclaw, Poznan, PTL Publ., 1962 (1875), vol. 8, part 4, pp. 1–87. (In Polish)
- Kolberg O. Dzieła wszystkie. Chełmskie [All Works. Chelmskie]. Wroclaw, Poznan, PTL Publ., 1964 (1891), vol. 34, part 2, pp. 83–127. (In Polish)
- Kolberg O. Dzieła wszystkie. Radomskie [All Works. Radomskie]. Wroclaw, Poznan, PTL Publ., 1964 (1888), vol. 21, part 2, pp. 172–220. (In Polish)
- Kolberg O. Dzieła wszystkie. W. Ks. Poznańskie [All Works. W. Ks. Poznanskie]. Wroclaw, Poznan, PTL Publ., 1982 (1881), vol. 14, part 6, pp. 3–156. (In Polish)
- Kopernicki I. Gadki ludowe górali beskidowych z okolic Rabki [Folk Talks of the Beskid Highlanders from the Vicinity of Rabki]. In: Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej [Collection of News on National Anthropology], 1891, vol. 15, pp. 10–19. (In Polish)
- Kowerska Z. O chłopakach zaklętych w ptaki [About Boys Turned into Birds]. In: Wisła, 1900, vol. 14 (5), pp. 600–602. (In Polish)
- Kozłowski K. Lud. Pieśni, podania baśnie, zwyczaje, przesądy ludu z Mazowsza czerskiego wraz z tańcami i melodyami [People. Songs, Fairy Tales, Customs, Superstitions of the People of Mazovia Czerski Together with Dances and Melodies]. Warsaw, in the printing house of Karol Kowalewski Publ., 1869. 388 p. (In Polish)
- Malinowski L. Powieści ludu polskiego… [The Novels of the Polish People…]. In: Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne [Anthropological, Archeological and Ethnographic Materials], 1901, vol. 5, pp. 3–272. (In Polish)
- Paluch A. Etnologiczny atlas ciała ludzkiego i chorób [Ethnological Atlas of the Human Body and Diseases]. Wroclaw, The University of Wroclaw Publ., 1995. 184 p. (In Polish)
- Polaczek S. Wieś Rudawa. Lud, jego zwyczaje, obyczaje, obrzędy, piosnki, powiastki i zagadki [The Village of Rudawa. The People, its Morals, Customs, Rituals, Songs, Fairy Tales and Riddles]. Warsaw, М. Arcta Publ., 1892. 255 p. (no. 7). (In Polish)
- Siewiński L. Bajki, legendy i opowiadanie ludowe zebrane w powiecie Sokalskim [Fairy Tales, Legends and Folk Tales Collected in Sokalski Region]. In: Lud [People], 1903, vol. 9, pp. 68–85. (In Polish)
- Sulima R. Słowo i etos. Szkice o kulturze [Word and Ethos. Sketches on Culture]. Krakow, Artistic Foundation of the Rural Youth Union Publ., 1992. 222 p. (In Polish)
- Wasilewski J. S. Podróże do piekieł. Rzecz o szamańskich misteriach [Journeys to Hell. A Thing About Shamanic Mysteries]. Warsaw, People’s Publishing Cooperative Publ., 1979. 241 p. (In Polish)
- Wasilewski J. S. Tabu [Taboo]. Warsaw, The University of Wroclaw Publ., 2010. 421 p. (In Polish)
- Williams Ch. The Silent Struggle. Autonomy for the Maiden Who Seeks Her Brothers. In: The Comparatist. Chapel Hill, The University of North Carolina Press Publ., 2006, vol. 30, pp. 81–100. (In English)
补充文件