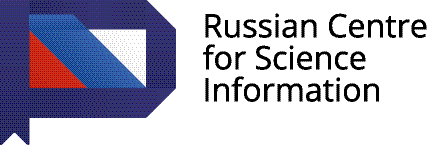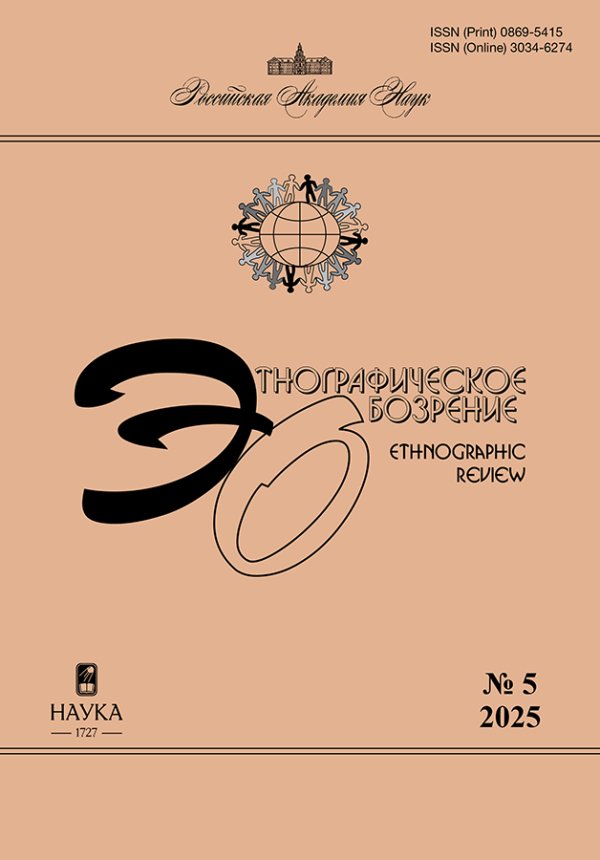Issues in Historical Research on the Culture of Traditional Folk Celebrations
- Authors: Vinokurova I.Y.1, Konkka A.P.1, Suslova E.D.2
-
Affiliations:
- Institute of Linguistics, Literature and History of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences
- Petrozavodsk State University
- Issue: No 6 (2024)
- Pages: 127-151
- Section: Discussion: Historical Research on Festive Culture
- URL: https://journals.rcsi.science/0869-5415/article/view/276269
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869541524060079
- EDN: https://elibrary.ru/VTLFPR
- ID: 276269
Cite item
Full Text
Abstract
This publication presents a discussion of issues raised by E.D. Suslova in her article on the “Church Feast in the Olonets Region in the Early Modern Period: An Experience in Reconstruction Based on Archival Sources”, which inquired into what exactly was the Church feast in the North of Russia in the 17th century. Drawing on the comparative analysis of various archival materials, the author examined the types of celebrations, their participants, regional differences and interconnections, as well as the elements and constituents of festive culture and the functions of the Church feast. She argued that there was evidence pointing to the participation of peasants in Church feasts and to the fact that their family celebrations and other events of household importance were often timed to the latter. In the region where peasants working on state lands prevailed and traditions of communal self-government were strong, parishes must have functioned both as religious and as land associations. Consequently, Church feasts must have meant simultaneously the time for holding celebrations, conducting important economic transactions, and administering communal matters. The author’s arguments are discussed in the comments by I.Y. Vinokurova (“Issues in Studying Traditional Celebrations in the Light of Historical and Ethnographic Sources”) and A.P. Konkka (“On the Functions of Traditional Folk Celebration and Asocial Behavior”).
Full Text
Проблемы изучения праздников в свете интеграции исторических и этнографических источников
И.Ю. Винокурова
Статья Е.Д. Сусловой затрагивает важные проблемы современных этнологических исследований, связанных с реконструкцией различных сфер традиционной (доиндустриальной) культуры народов России и ролью, которую в этом играют исторические документы, а также с возможностью диахронного сравнения одних и тех же явлений, упоминаемых в этнографических и исторических источниках, разделенных несколькими столетиями.
Постепенное исчезновение из сельского быта элементов традиционной культуры, процессы модернизации, естественный уход из жизни подлинных знатоков крестьянской культуры – информантов, родившихся в начале XX в. и раньше, в настоящее время привели к невозможности изучения культурных традиционных форм только посредством полевых наблюдений и опросов сельских жителей, популярных среди этнографов в 1930–1990-х годах. Новая ситуация диктует расширение круга источников. Одним из направлений их поиска может быть архивная эвристика исторических документов, которые прежде в этнографических работах по изучению традиционной культуры использовались крайне мало из-за полноты полевых материалов в распоряжении исследователей. Как пишет Р.И. Якупов, “приходит время, когда восстановить этнокультурную реальность доиндустриальной эпохи (рубежа XIX–XX вв.) будет возможно только этим способом. Точно так, как в основном сегодня мы реконструируем этнографию средневековья и нового времени” (Якупов 2013: 6–7).
Именно к периоду раннего Нового времени (конец 1640-х – начало 1680-х годов) обращена статья Е.Д. Сусловой, в которой автор на основе исторических документов делает попытку “реконструировать элементы традиционного церковного праздника и определить его роль в жизни локальных крестьянских общин Олонецкого края в раннее Новое время” (см. статью Е.Д. Сусловой в текущем номере). Поставленная цель отличается новизной. Как отмечает автор, “история церковного праздника XVII–XVIII вв. изучена в самых общих чертах, главным образом с опорой на документы, относящиеся к приходам Вологодской и Архангельской епархий” (Там же). Для реконструкции автор привлекает уникальные дела из огромного фонда “Олонецкой воеводской избы”, в которых беглой скорописью запечатлены разнообразные житейские коллизии. В фонде было выявлено 32 дела, «посвященных судопроизводству по искам об избиении, ограблении, краже имущества, поджоге хозяйственных построек, убийстве в завязавшейся “хмельным обычаем” драке, составлении подложных актов, а также по искам, связанным с другими преступлениями, случившимися в праздничное время, и поэтому содержащим сведения о тех или иных элементах праздничной культуры» (Там же). Введение данных документов в научный оборот, безусловно, будет иметь важное значение для исследователей традиционной культуры народов Северо-Запада.
Одна из первостепенных задач работы Е.Д. Сусловой заключалась в том, чтобы “оценить информационный потенциал олонецких актов для изучения истории праздника” (Там же). Но праздник – явление многогранное. В этой связи отметим, что некоторые приведенные сведения оказались значимыми и для изучения этнической истории и этнокультурных контактов данной территории, поскольку автор постаралась определить ее этнический состав, что в исторических работах подобного рода делается довольно редко.
В статье автор указывает погосты, по которым была обнаружена информация о праздниках. Опираясь на работы историка А.Ю. Жукова, исследовательница с некоторой долей сомнения приводит этнический состав погостов Олонецкого уезда. Отметим, что выявленный “этнический окрас церковных праздников” в целом установлен верно и является важным ориентиром для использования статьи в качестве этнографического источника. На наш взгляд, предварительно составленная этническая карта Олонецкого уезда позволила автору лучше представить реконструированные по документам праздничные связи и сделать вывод, касающийся роли церковного праздника в этнических процессах данной территории: “Церковный праздник содействовал дальнейшей консолидации коренных этносов в ареалах их расселения, а также межэтническому взаимодействию и формированию этнолокальных групп” (Там же). Среди представленных данных особо отметим упоминание о “корельском выходце” на празднике – Фомке Андрееве, который числился в 1675 г. бобылем в Каргинской волостке Веницкого погоста, населенной чудью. Данный факт отражает один из важных этапов карельско-вепсского взаимодействия, связанного с трагическими событиями ХVI–ХVII вв. – войнами России и Швеции, затронувшими земли приладожской корелы и вызвавшими миграции карел в глубь России. Часть карельских переселенцев продвигалась через Олонецкий перешеек на юг к Свири и попадала под защиту Александро-Свирского монастыря или оседала в окружающих его вепсских поселениях. Известно, например, что в ближайшем к Александро-Свирскому монастырю приходе – Веницком – в это время поселились “корельские выходцы” (Винокурова 2011: 93–94). Факт, извлеченный Е.Д. Сусловой из нового фонда документов, подтверждает имеющуюся информацию по этому периоду.
Следует заметить, что при работе с документами автор усложнила задачу своего исследования: не просто рассмотрела исторические данные в качестве источника по изучению праздника XVII в., но и в ряде случаев постаралась выявить генезис отдельных праздничных элементов. С этой целью она использовала диахронное сравнение однородных явлений, относящихся к разным хронологическим срезам. Первый срез (1640–1680-е годы) составили церковные праздники и праздничные элементы (гостьба, пиры и братчины, народные гуляния, зрелища), выделенные на основе упоминаемых выше дел канцелярии олонецких воевод. Второй срез – эти же праздники и элементы по состоянию на конец XIX – начало ХХ в., они представлены в статьях и монографиях исследователей праздничной культуры народов Карелии, написанных преимущественно по полевым материалам.
В связи с оценкой выполнения данной задачи возникает вопрос: насколько возможен и результативен такой вид сравнения для проведения историко-культурных реконструкций?
Начнем с того, что диахронная реконструкция должна опираться на синхронную этногеографию (Алексеев 1983: 253). В статье указываются севернокарельские, ливвиковские и людиковские погосты XVII в. – Паданский, Селецкий, Семчезерский, Линдозерский, Шуйский, Салминский, Олонецкий; вепсские – Важинский, Пиркиничский, Оштинский, Веницкий; русские – Шуньгский, Толвуйский, Кижский, Пудожский, Андомский, Вытегорский, Мегорский. Следовательно, именно эти места должны быть по возможности представлены в источниках по праздникам конца XIX – начала ХХ в., поскольку выводы, сделанные на основе локальных фактов и спроецированные на всю исследуемую территорию, к тому же неоднородную в этническом отношении, всегда несут в себе долю сомнения. К сожалению, большая часть упоминаемых в документах XVII в. мест не нашла соответствия в представленных в историографическом обзоре работах, освещающих более поздний период. В отсутствии необходимой информации состоит трудность диахронного сравнения. Хотя в нашем случае не все так плохо, и в настоящее время существуют работы, в которых можно найти описание праздников данной территории в конце XIX – начале ХХ в. Так, судя по тексту статьи и представленной таблице, в деревнях Заонежья раннего Нового времени был очень популярен день Рождества Иоанна Предтечи. Этот праздник не утерял своего размаха и в конце XIX – начале ХХ в. На это указывают источники, которые следовало бы упомянуть при диахронном сравнении (Куликовский 1888, Логинов 2010, Абросимова 2019: 657). Приводимые этнографами факты свидетельствуют о том, что устойчивость широкого празднования Рождества Иоанна Предтечи по всему Заонежью объясняется контаминацией этого праздника и праздника летнего солнцестояния (Радкольское воскресенье в Южном Заонежье), отмечаемом на данной территории с древности (Логинов 2010). Упоминания о некоторых праздниках Вытегорского края можно найти в опубликованных материалах Тенишевского архива (Баранов, Коновалов 2008: 178–203). В то же время упомянутые в историографическом обзоре праздники ряда территорий Олонецкой губернии конца XIX – начала ХХ в., например вепсского Прионежья (Винокурова 1996), достаточно подробно исследованы, однако в документах раннего Нового времени они не зафиксированы; то же самое можно сказать и о праздниках в Панозере и Ондозере.
Праздник обнаруживает многочисленные связи с различными сферами жизни социума. Поэтому некоторые привлекаемые для диахронного сравнения источники должны охватывать более широкий круг тем, нежели только церковные праздники. Так, на основе крестьянских челобитных автором были выявлены места праздничного пивоварения и винокурения для собственных нужд в середине XVII в. Они располагались у русских Заонежья (Шуньга), карел-ливвиков (Туломозеро) и карел-людиков (Шуя). Эту ценную информацию следовало бы соотнести с источниками о развитии земледелия в указанных местах. Дело в том, что праздничное пивоварение и “курение” вина, которое делалось из браги на основе ржи (самый частый вариант) или пшеницы (редко), было распространено в Карелии и прилегающих территориях неравномерно и зависело от плодородия почв и урожаев зерна. Одними из самых плодородных земель Карелии являются шунгитовые почвы в Заонежье (Шуньга), которые способствуют повышенной урожайности культур. У северных вепсов Западного Прионежья, напротив, земли малоплодородные, и храмовые праздники у них не были пивными, в отличие от проживающих южнее групп вепсов, русских, ижор и води, которые сопровождали “престолы” пивными братчинами (Haavio 1963: 94–96; Sarmela 1969: 32; Kettunen 1918: 88–94; Громыко 1986: 132–146). По свидетельству жителей вепсского Прионежья, пиво в северновепсских семьях готовилось нечасто, только к таким особо торжественным событиям, как свадьба. Варкой пива обычно занимались пивовары, ходившие по северновепсским деревням и предлагавшие свои услуги населению. Отсюда следует, что местные жители в большинстве своем не имели опыта приготовления пива. По свидетельству Р.Ф. Никольской, “ни пива, ни браги не варили” и у сегозерских карелов, вообще “алкогольных напитков употребляли очень мало” (Никольская 1981: 144). Т.А. Бернштам также отмечала снижение роли пива на больших праздниках в некоторых русских районах, например, в Архангельском уезде (Бернштам 1988: 217). Данное явление она связывала с нехваткой хлеба у населения этих мест.
Кроме того, пивные братчины, в ходе которых нередко велись разговоры на самые острые темы, вызывали запретительные постановления властей (Громыко 1986: 133). Возможно, изучение этих постановлений позволит в дальнейшем прояснить вопрос о распространении в Олонецком уезде пивных общинных пиров, который остается открытым.
Как следует из статьи Е.Д. Сусловой, традиция пивоварения и винокурения менялась и зависела от вводимых государством постановлений. Сначала пашенные солдаты Шуйского погоста и сержанты Туломозерской волости Олонецкого погоста «по обыкновению варили пиво и курили вино в небольших количествах “на Господъские и Владычни, и наших храмов на стоящие праздники, и на заговена, и на поминку… про свой обиход”, а не на продажу. Однако установленный порядок был нарушен сменившими в 1650 г. кабацких голов откупщиками» (см. статью Е.Д. Сусловой в текущем номере). Здесь напрашивается более развернутое объяснение сменившегося порядка, тесно связанного с историей возникновения питейных заведений в России, дополненное ссылками на работы исследователей, например на труды И.Г. Прыжова (Прыжов 2017). Пока читателю приходится разбираться в этом вопросе самому.
Далее в статье сообщается, что олонецкими воеводами был установлен круг церковных и семейных праздников, накануне которых челобитчики могли “про свой обиход” курить вино (“к Велику дни, к Рожеству Христову и к Масленицы”) и варить пиво (“к Покрову Святей Богородицы, к Дмитреевской суботе, к Николину дни, к Рожеству Христову, к Велику дни, и к Масленице, и ко крестинам, и к родинам”). Из этого сообщения не ясно, почему автор пришла к выводу о том, что “пиво являлось в указанном ареале поминальным напитком” (Там же). Свое заключение она соотносит с материалами этнографов, в которых не зафиксирована данная особенность.
В различных по жанру источниках одни и те же явления освещаются с разной степенью полноты и вследствие этого иногда бывают трудносопоставимыми. Рассмотрим для примера родительские поминки в деревнях местности Куржекса, которые удалось обнаружить в судебном деле об убийстве, приведенном в статье Е.Д. Сусловой (см. статью Е.Д. Сусловой в текущем номере), и материалах “Этнографического бюро” князя В.Н. Тенишева (Баранов, Коновалов 2008: 189).
Достаточно мрачно в судебном документе выглядит поминовение умерших родственников на Радуницу (4 апреля 1676 г.) в одной из деревень (д. Ильинская) местности Куржекса. Судя по тексту, на Радуницу в каждый дом съезжались родственники из соседних деревень для поминовения предков, варилось пиво, распитие которого приводило к сильному опьянению участников и дракам. Так, во время драки 4 апреля 1676 г. был убит житель д. Ильинской Андомского погоста Андрюшка Остафьев.
В этнографическом описании корреспондента “Этнографического бюро” П.Г. Трошкова (1899 г.), напротив, представлена благостная картина проведения поминок в деревнях местности Куржекса Саминского прихода Вытегорской вол. Олонецкой губ.:
Родительские поминки здесь проводятся своеобразно <…> В день поминки, в полдень, хозяйка накрывает чистой скатертью стол, раскладывает на нем яства и пития, все, что приготовлено; кругом стола ставят скамейки. Хозяин берет кадильницу <…> начинает ходить кругом стола и кадить кушанья, читая молитву: “Святый Боже!”. Когда хозяин обойдет кругом стола три раза <…> вся семья становятся вдали от стола, скрестивши груди и храня строгое молчание. В это время, по убеждению крестьян, являются все умершие родственники, садятся за стол и невидимо угощаются. Великим преступлением считается в это время разговор и даже малейшее движение. В благоговейном страхе, неподвижно стоит вся семья час и больше <…> Поминка происходит при закрытых дверях (Баранов, Коновалов 2008: 189).
Надо сказать, что оба разновременных источника отмечают сбор родственников в каждом доме во время праздника для поминовения умерших предков. И здесь мы переходим к еще одному обычаю церковного праздника – гостьбе родственников из соседних поселений, которому автор статьи уделила большое внимание и наметила его генезис, с которым трудно согласиться.
Свой анализ автор начинает с обсуждения выявленной этнографами особенности престольных праздников у вепсов Прионежья и карелов Сегозерья в конце XIX – начале XX в. – “взаимной гостьбы жителей соседних поселений”, приходившихся друг другу родственниками и принимавшихся в гости хозяевами “строго по родству” (Винокурова 1996: 39; Конкка 1980: 99). Здесь стоит пояснить, что данный обычай касался крестьянских семей: каждый дом имел собственных гостей-родственников, которых принимающая родня обеспечивала ночлегом и питанием. Традиция приема гостей “строго по родству” была обнаружена у вепсов Прионежья, для остальных групп вепсов она существовала, но не была столь неукоснительна. Поскольку в формировании вепсов Прионежья большое участие принимали карелы, то устойчивость данной традиции могла объясняться карельским влиянием.
Как показывают этнографические материалы, с ростом мобильности сельского населения круг гостей в крестьянских домах перестал ограничиваться только родней. К XIX в. у карел Сегозерья гостями “помимо родственников стали их знакомые” (Конкка, Логинов 2001: 226). По мнению этнологов, гостьба по родству имеет древнее происхождение, храмовые праздники “впитали” от прежних празднеств прибалтийско-финских народов их древнюю организацию, основанную на родовом принципе (Винокурова 1996: 39; Конкка 1980: 99; Конкка, Логинов 2001: 226). Выводы этнологов в основном строились на массовых полевых материалах, собираемых начиная с 1970-х годов у пожилых информантов и фиксирующих, таким образом, бытование крестьянской традиции конца XIX в., а также на утверждении финского ученого Х. Киркинена о повсеместно распространенных в XVI в. среди карел родовых праздниках, на которые въезд незваных гостей не допускался. Под незваными гостями этнологи единодушно понимают чужих людей, “не связанных родством с жителями данной деревни” (Конкка, Логинов 2001: 226). Это мнение оспаривается Е.Д. Сусловой, которая считает, что “выдвинутая этнологами концепция, будучи подкрепленной данными этнографии и лингвистики, выглядит обоснованной для реалий XIX – начала XX в., однако не может быть экстраполирована на XVI–XVII вв.”. В этом ее убеждают выводы М.С. Черкасовой и Е.Н. Швейковской, согласно которым “пир” мог быть как общинным, так и семейным (или родовым), «однако “незваными”, т.е. “чужаками” на них, согласно содержанию актов XIII–XVII вв., являлись вовсе не гости, не состоявшие в родстве с жителями поселения, где стояла церковь, но исключительно представители вотчинной и княжеской администрации (наместники, волостели, тиуны, дети боярские), а также крестьяне, проживавшие на землях других вотчинников» (см. статью Е.Д. Сусловой в текущем номере). Следует заметить, что о незваных гостях на пире по сведениям грамот XV–XVI вв. гораздо раньше писала М.М. Громыко. По данным этой исследовательницы, в грамотах говорится о совместных трапезах однодеревенской общины, посвященных дням храмовых, местных или наиболее популярных в данной местности святых, а также некоторым другим праздникам. В ряде грамот оговаривается запрет ездить или ходить в села и деревни на братчины незваными. В одних случаях указывается, что никто не должен являться на братчины незваным, в других – запрет отнесен только к наместничьим людям или к боярам и детям боярским. Жалованные грамоты касались деревень Костромского (1506–1507 гг.), Каширского (1507 г.), Галичского (1507 г.), Юрьевского (1507 г.), Старицкого (1525 г.) и других уездов (Громыко 1986: 132–133). Насколько данные сведения могут быть экстраполированы на территории, населенные карелами? В любом случае, в грамотах назывались чужаки, “не связанные родством с жителями данной деревни”.
Е.Д. Суслова утверждает, что предложенная М.С. Черкасовой и Е.Н. Швейковской интерпретация текстов грамот хорошо согласуется с данными олонецких актов. В качестве примера она приводит случай изгнания крестьянина черносошной д. Тимонинской с часовенного праздника крестьянами, находившимися в вотчине Спасо-Хутынского монастыря. Этот пример представляется не очень удачным, поскольку речь идет о каком-то духовном сообществе монастырских крестьян.
В большинстве других случаев автором статьи описываются драки, конфликты, убийства, которые происходят на фоне праздничной гостьбы родственников в домах крестьян, т.е. получается, что традиция по родству существовала на церковных праздниках раннего Нового времени. Такой вывод автор формулирует в заключении статьи: “Практика приема гостей по родству, зафиксированная этнографами в XIX – начале XX в., безусловно, уже существовала”, “однако выявленные житейские ситуации не могли не содействовать ее поддержанию”, способствовали “сужению прежде широкого состава гостей и функций” (см. статью Е.Д. Сусловой в текущем номере). Как можно видеть из сформулированного вывода, автор считает, что зафиксированная этнологами традиция праздничной гостьбы по родству на престольные праздники в XVII в. не была строгой. Во время праздников в крестьянских домах могли останавливаться незнакомые люди. Но поскольку такой прием незнакомцев часто оборачивался драками и грабежом имущества, подобные житейские казусы привели к приему гостей строго по родственному принципу. Отсюда вытекает, что особенно ярко эта традиция проявилась у сегозерских карел и прионежских вепсов.
Мнение о “сужении прежде широкого состава гостей” на церковном празднике вызывает возражение. Даже при строгости традиций могли существовать единичные, связанные с неведомыми нам обстоятельствами исключения, когда в доме на время праздника останавливались посторонние. Кроме того, прием гостей в крестьянских домах по родству вовсе не отрицает присутствия на празднике людей разного социального статуса. Например, упоминаемых в исторических и этнографических источниках церковнослужителей, торговцев, без которых невозможно представить престольные праздники с их литургиями, торжками и ярмарками. Но людей с высоким социальным статусом было значительно меньше. Они, как правило, останавливались в домах зажиточных крестьян или, будучи хорошо экипированными, имели возможность в тот же день отправиться в дорогу на лошадях.
Вывод о том, что “в давние времена” у вепсов Прионежья и карелов прием гостей в крестьянских домах на храмовые праздники осуществлялся строго по родству, можно дополнить и другими аргументами. Финские ученые М. Хаавио и М. Сармела писали об устойчивости данной традиции на материалах праздников у финнов, карел, ижор (народа, который, как известно, имеет карельское происхождение) и води (Sarmela 1969: 32). Они приводили пример древних карело-финских родовых праздников vakka, посвященных верховному богу Укко. Бытование таких праздников под названием vakkove (vakka) было зафиксировано в середине XIX в. у финнов Саволакской обл., у карел в д. Муола и во многих ижорских деревнях. Исследователи отмечали, что в более ранний период vakka представлял собой родовой (внутриобщинный) праздник, на котором не разрешалось присутствовать посторонним из других деревень, затем постепенно в запрет вносились изменения. Так, М. Хаавио сообщает, что у ижор с праздника vakkove в Ильин день выгоняли пришедших из других деревень со словами: “Почему пришел? У нас свой праздник, нашей деревни” (Haavio 1961: 76). Со временем это ограничение было несколько смягчено. По сообщению В. Алава, в водской д. Ярвикюла в Ильин день у березы собирались только односельчане, и лишь через час-два к ним могли присоединиться жители других деревень (Ibid.). В д. Сойкино посторонних мужчин, прибывших на третий или четвертый день праздника, хлестали розгами (Ibid.).
Кроме того, отмечание престольных праздников было сопряжено с такими взаимосвязанными явлениями, как патронимия и гнездовой тип расселения в Карелии. Престольный праздник, как правило, охватывал гнездо деревень, расположенных поблизости друг от друга. Эти деревни в прошлом в значительной своей части являлись как бы родовыми, возникшими в результате выделов семей сыновей из разросшихся больших семей. Семья женатого сына, отделившись от родительской, строилась либо в своей же деревне рядом с отцовским домом, либо на новом месте в некотором отдалении, давая тем самым начало новой деревне. По данным этнографов, еще в 80–90-е годы XIX в. браки между жителями такой деревни были запрещены (Пименов 1965: 264). Поддержание тесных связей с родственниками, живущими отдельно, было давним естественным явлением для престольных и часовенных праздников. Это явление основывалось на патронимии – форме общественного устройства, свойственной патриархально-родовому строю.
В некоторых обычаях гостьбы на храмовые праздники оставили следы авункулатные отношения, при которых связь между индивидом и его дядей со стороны матери была более значимой, нежели с дядей со стороны отца и даже с самим отцом. Они отразились в сохранившемся у карел и вепсов Прионежья родовом обычае длительной гостьбы девушек, в основном племянниц, во время зимних престольных праздников у своих родственников по материнской линии. Согласно этому обычаю, который носил название adiv (вепс.), ad’vo, ativo (кар.), накануне зимнего храмового праздника своего селения дядя или двоюродный брат девушек (по материнской линии) на санях объезжал соседние деревни, где проживали его молодые родственницы, и забирал их к себе погостить на две-три недели. Кстати, такая гостьба под другим названием была зафиксирована в некоторых деревнях удмуртов, культура которых сохранила много архаичных черт (устное сообщение Т.Г. Владыкиной).
По мнению У.С. Конкка, ативо (ad’vo, ativo) некогда являлось одной из форм родовой организации у карел. В качестве убедительного примера она приводит лингвистические данные: в районе Кестеньги престольные праздники иногда назывались suuret ativot (большие ативо). В словаре Юслениуса 1745 г. слово ativo толкуется как пиршество родственников и семьи, годовой семейный праздник (Конкка, Логинов 2001: 231).
Сохранившиеся в организации церковных праздников эти обычаи, связанные с семейно-родственными отношениями крестьян, свидетельствуют об эволюции традиции праздничной гостьбы в крестьянских домах: сначала преимущественно по родству, затем – с постепенным расширением круга посторонних.
Указанные дискуссионные моменты говорят о многочисленных ограничениях диахронного сравнения, связанных с неполнотой и асимметрией исторических и этнографических данных.
Высказанные суждения не влияют на ценность представленных в статье материалов. Вообще, документы канцелярии олонецких воевод высвечивают в первую очередь тему девиантного поведения участников праздника раннего Нового времени, которая находится в числе малоизученных по материалам конца XIX – начала ХХ в. Пока данные по этой теме не могут быть использованы для сравнительного анализа. Таким образом, представленные источники XVII в. позволяют наметить новые проблемы праздничной культуры, в частности народов Южной Карелии и прилегающих территорий, которые еще предстоит изучить.
О функциях традиционного народного праздника и асоциальном поведении
А.П. Конкка
Обсуждаемая статья Е.Д. Сусловой, как утверждается в аннотации, представляет собой попытку на основе исторических документов второй половины XVII в., хранящихся в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН (фонд “Олонецкая воеводская изба”), определить типы праздников, охарактеризовать состав их участников и ареалы праздничных связей, выявить отдельные элементы традиционной праздничной культуры и функции церковного праздника.
Удалось ли автору выполнить столь амбициозную задачу? Скорее всего, нет. Правильнее было бы сказать, что вопросы, поднятые в статье, касаются перечисленных тем. И, надо отметить, многие документы в этом отношении очень интересны. Суть, как всегда, в интерпретации. Главная проблема состоит в подходах к теме и в репрезентативности материала. Прежде всего в глаза бросается слишком большой географический разброс немногочисленных примеров, которыми оперирует автор, чтобы доказать определенный тезис. Часто они взяты из разных концов (и разных этнических сред) Олонецкого уезда, территория которого в XVII в. была огромной. Но это не говорит о системности явления, а остается лишь констатацией разрозненных фактов.
Похоже, что совершенно разный смысл вкладывается историками и этнографами в понятие “народная праздничная культура”. Так, в рассматриваемой статье наблюдается смешение понятий, когда утверждается, что конец 1640-х – начало 1680-х годов – “ключевой для истории традиционной народной культуры (курсив мой. – А.К.)” период. Несомненно, реформа Никона была “ключевой” для процессов реорганизации церковной жизни и идеологии, но, думаю, не стоит преувеличивать, создавая картину, будто бы происходившее внутри Церкви (речь в статье идет не только о никоновской реформе) каким-то образом меняло народное мировосприятие и традиции: например, влияло на тот же ход народного праздника, особенно на периферии.
В то же время сама дальнейшая история старообрядчества есть яркий пример стойкости и недюжинной силы традиции. Никакие репрессии в конечном итоге не возымели должного действия, а церковно-государственному аппарату начиная с постпетровских времен1 пришлось идти на попятный и постепенно, хоть и не всегда последовательно, ослаблять давление на старообрядцев и искать компромисс (введение единоверия в XIX в.). Более того, в начале ХХ в., всего лишь через несколько десятилетий после, казалось бы, тотальных разгромов старообрядческих центров на Севере, были отменены все законодательные ограничения в отношении старообрядцев. Все это время количество старообрядцев и в стране, и в Карельском крае (в Олонецкой и Архангельской губерниях) постоянно росло. Если взять беломорских карел, то, по свидетельству местных священников, в карельских волостях Кемского уезда старообрядцы составляли до половины всех крестьянских душ2 (см.: Описание приходов 1896: 110), а в Лопских погостах во второй половине ХVIII в. их было еще больше. Так, в Масельско-Паданском приходе Повенецкого уезда Олонецкой губернии в 1769 г. в д. Масельге (центр прихода) из 40 дворов только 5 считались православными, к концу же века не осталось и этих пяти. Причт Паданской церкви (к приходу которой изначально относилась церковь Ильи пророка в Масельге) “не принимал мер к ослаблению раскола. Даже сами священники, не говоря об их семействах, были нередко склонны к расколу и пред смертию перекрещивались в раскол” (Кудрявцев 1904: 583–584). Кстати сказать, своим “окормителем” население Масельги объявило священника Паданского прихода старообрядца Михея Васильева. Складывается впечатление, что гонимое старообрядчество воспринималось частью населения как древняя этническая религия (“религия наших дедов”). Здесь также стоит упомянуть одну из проблем, способствующую тому, что контакты с православным священством у карел зачастую были чисто формальными: это незнание не только старославянского, но (многими) и русского языка. Недаром в последние годы перед революцией предпринимались (по крайней мере обсуждались) попытки перевода богослужения на карельский язык. Население же в основном руководствовалось апокрифическими правилами или “народной Библией”, что, например, ярко проявилось в описании поведения верующих на пасхальной службе, сделанном в середине XIX в. священником Янгозерского прихода Поросозерской волости Александром Петропавловским:
О Пасхе во время произношения слов “Христос воскресе” подымают обе руки скоро и говорят: “Воистину воскресе”. Поднятие рук основывают на следующей басне: По погребении Господа, Пресвятая Богородица, придя домой во время Пасхи, начала скать сканцы (пресные пироги, первое кушанье жителей Повенецкого и Петрозаводского уездов) и жарить на сковороде рябчика. В это время кто-то пришел и сказал: “Христос воскресе”. Богородица, усумнясь в этом, сказала: “Буде рябчик, изжаренный мною, оживет и полетит, то и я уверюсь в воскресении Господнем”. Рябчик ожил и полетел. Пресвятая Богородица, уверившись в воскресении Господнем, воскликнула: “Воистину воскресе!” Раскольники, подражая рябчику, улетевшему на воздух и возвестившему Пресвятой Богородице воскресение Господа, подымают руки до головы скоро, как бы крылья и говорят: “Воистину воскресе” (Петропавловский б.д.).
В своей реплике мне хотелось бы, опираясь на примеры из карельской этнографии и учитывая сказанное в обсуждаемой статье, представить с позиции этнолога некоторые составляющие достаточно сложного феномена традиционного праздника, впитавшего в себя множество аспектов народной культуры.
Религиозная сторона праздника в народной среде часто сводилась к самому насущному – к молитвам о благополучии семьи и скота, об удаче на промысле и хорошем урожае, обращенным к Николе, Илье, Богородице и другим святым и подкрепленным жертвами в часовню (а ранее – под родовые деревья3) начатков – первых сезонных результатов крестьянского труда. В связи с этим нельзя не вспомнить известную фразу “своим молбищом древесом и каменью” из Грамоты середины XVI в. новгородского архиепископа Макария, направленной в “Водскую пятину и Корельские уезды”. Между прочим, речь идет о той самой хозяйственно-производственной функции праздников (определенных дней, делящих год соответственно природным циклам на периоды трудовой деятельности), которая была неотделима от их религиозно-магической функции. Со времен Средневековья календари народный и церковный постепенно сближались, и памятные даты последнего аккумулировали многие календарные обряды. Это происходило в том числе за счет переосмысления роли святых: им придавали черты, свойственные крестьянскому сословию (у святых появлялись профессии, или фиксировалось особое отношение к определенным орудиям труда, предметам быта и пр.). Святые “окрестьянивались” и естественным образом находили свое место в народном месяцеслове (что происходило не только в православии, но и в католичестве). Тем не менее во многих местах заветные/обетные праздники, которые кроме того, что были встроены в календарные святцы, иного отношения к церковным установлениям не имели, дожили до ХХI в. Некоторые же праздники, как, например, в Карелии День Сюндю, Летний праздник, День быка, Баранье воскресенье, Кегри, существовавшие до конца XIX – начала ХХ в., не имели отношения и к официальному календарю.
Такую (или примерно такую) позицию относительно производственной функции праздника разделяли многие дореволюционные и советские ученые ХХ в., и не думаю, что в этом смысле воззрения этнографов сильно изменились. Но позднее, как это часто бывает, специалисты занялись новыми темами: появились работы о взаимоотношениях Церкви и общины (Т.А. Бернштам, М.М. Громыко, А.Н. Розов); популярным стало понятие “кризисная сеть”, в которую включались как имевшие отношение к православию объекты, так и дохристианские по сути природные комплексы (Т.Б. Щепанская, А.А. Панченко, Н.Е. Мазалова).
Помимо прочего, народный праздник выполнял многогранную социально-коммуникативную функцию: он способствовал поддержанию не только традиционного набора песен, танцев и игр, но и целой системы сезонных молодежных посиделок, бесед и складчин. Как следствие – бытование специальных летних праздничных свадеб без присутствия родителей (в карельском Сегозерье) или выхода “замуж на кончике платка” (в Беломорской Карелии), когда парень во время танцев протягивал платок, за конец которого бралась девушка (ср. с распространенными в Олонецкой губернии выходом “замуж с беседы” или “убёгом”).
В Карелии был широко известен институт адьво, когда находящиеся в фертильном возрасте девушки, приурочив, как правило, свой приезд к большому празднику или, например, к зимним Святкам, гостили у родственниц по материнской линии в течение нескольких недель, участвуя во всех обрядах и молодежных собраниях. Возможно, что такая активность женского пола и дала повод А.М. Линевскому, исследовавшему в 1920–1930-е годы материальную и духовную культуру Паданской и прилегающих к ней волостей, утверждать, что “на церковные праздники съезжались из соседних обществ, в то время, как прежде, празднование шло лишь внутри самого общества (в понятии современного сельсовета), а иногда даже внутри одного селения, куда съезжались только женщины – выходцы данной местности с их ближайшей новой родней” (Линевский 1936–1937. Л. 193). Т.Б. Щепанская использует определение “брачный круг”. Так, по ее мнению (в данном случае речь идет о центральных и восточных районах Архангельской губернии), существовала “система брачных кругов (групп поселений, объединенных родственными связями, брачными обменами, взаимной гостьбой на праздниках)” (Щепанская 1995: 110). Но независимо от используемого названия (будь то “брачные круги” или “праздничные ареалы”), основа территориальных праздничных связей (в том числе в процессе складывания локальных групп населения) зиждилась на брачном выборе женщин, выходящих замуж в другую деревню – ближнюю или дальнюю. Ареалы праздничных связей определенного поселения зависели от его величины и времени возникновения. К примеру, самые дальние села, откуда приходили в старинное с. Сельги Паданской волости, находились примерно в 100 км, что подтверждают и приведенные в статье Е.Д. Сусловой материалы о прибытии на праздник в 1680 г. крестьянина Олешки Иванова из Линдозерского погоста. Здесь следует заметить, что в Сельги шли паломники со всей Средней Карелии, направляясь к о-ву Махосоори на Селецком оз., известному своими жертвоприношениями животных на праздник Успения Богородицы (см.: Конкка 2014). В любом случае, приведенные в обсуждаемой статье сведения о местах, откуда прибывали на праздники (напр., праздники Семчезерского погоста и др.), очень интересны, в том числе из-за их совпадения с брачно-праздничными ареалами XIX в., зафиксированными этнологами.
В той части статьи, где речь идет о составе участников престольных праздников, с моей точки зрения, автору следовало бы обратиться к работе известного финского историка Х. Киркинена “Карелия между Востоком и Западом”, в которой приводятся документальные доказательства того, что в Карелии XVI в. существовали родовые праздники. Так, в царской грамоте 1554 г. Коневецкому монастырю запрещалось являться без приглашения на родовые праздники монастырских крестьян. Кстати, престольные или иные праздники, имеющие отношение к Церкви, Х. Киркиненом не упоминаются. Он довольно осторожно говорит о том, что “пиры” (такое название фигурирует в документах) “можно считать формой праздников, на которых в некоторых случаях присутствовало поминовение умерших” (Kirkinen 1970: 133). В текстах нет деления на “просто” родовые и поминальные праздники, но сам термин “пиры”, вероятно, указывает на поминальный их характер. Дело в том, что акад. М. Хаавио в начале ХХ в. записал в Суоярвской и Суйстамской волостях (Приладожская Карелия) рассказы о mustaizet (поминовения), которые также называли “пирами”. Это были неприуроченные к годовому циклу (хозяева дома, где некоторое время назад умер почитаемый родственниками патриарх рода, решали о времени проведения праздника внутри семьи) поминальные родовые праздники (Конкка 2022: 129–135), для организации которых на землях рода выделялось отдельное поле (или пожога) для умерших. Поле засевалось рожью, ячменем, овсом, репой, а полученный урожай использовался для варки пива (suloi) и приготовления снеди для многочисленных родственников (“до девятого колена”), приглашаемых со всей округи. Но главными “действующими лицами” поминального праздника были умершие родственники, которых каждый день в течение шести недель звали на пир при помощи причитаний специальные плакальщицы. Интересная деталь: по одному из рассказов, стены дома, где проходил “пир”, были буквально усеяны вбитыми в них деревянными гвоздями по числу предполагаемых гостей – умерших родственников.
По традиции, специально назначенные люди приглашали наряду с богатыми и знатными всех нищих и калек, с которыми на празднике обращались как с равными. Естественно, явиться незваными гостями на такой праздник людям из других родов и в голову не приходило. Кому же тогда была адресована царская грамота? Может быть, служителям и монахам монастыря (уж никак не являвшимся родственниками празднующим)? Далее в статье Е.Д. Сусловой говорится о чужаках на “пирах”. Чужаки – представители администрации (что логично), но вовсе не гости, “не состоявшие в родстве с жителями поселения, где стояла церковь”. Интересно, как это проверяли? Может, все-таки наоборот: на “пиры” и “братчины” (термин, по моему разумению, говорящий о родстве) из других деревень приходили как раз родственники? Непонятно также, почему незваными считались “также крестьяне, проживавшие на землях других вотчинников”? Почему их никто не звал? Они относились к другим родам? Кстати, это противоречит “генеральной линии” обсуждаемой статьи: на праздник могли прийти все, кто пожелает.
Резюмируя, стоит, вероятно, отметить, что любой родовой праздник так или иначе являлся поминальным, потому что в нем всегда присутствовали элементы культа предков данного рода. Что же касается карел, то они, как считал исследователь финно-угорских народов У. Харва, особенно тесно были связаны со своими умершими родственниками, от которых зависело функционирование всей структуры родовой организации. “В этом смысле, – пишет У. Харва, – даже верховный бог не мог соревноваться с ушедшими в Маналу (мир мертвых. – А.К.)” (Harva 1948: 510–511).
И последнее: относительно асоциального поведения на празднике. Автор дает понять, что почерпнутые из документов второй половины XVII в. сведения, на которых основана статья, содержат крупицы чего-то глобального и в конечном счете позволяют “воссоздать разнообразные стороны жизни крестьянского сообщества”, с чем невозможно не согласиться. Однако сам факт того, что речь идет о документах Олонецкой воеводской избы – об актах приказного делопроизводства, «посвященных судопроизводству по искам об избиении, ограблении, о краже имущества, поджоге хозяйственных построек, убийстве в завязавшейся “хмельным обычаем” драке… в праздничное время», т.е. о материалах, связанных, по словам самого автора статьи, с “житейскими казусами”, свидетельствует о том, что это примеры маргинального поведения, исключения из правил. Воссоздавать же на основе “казусов” традиционный ход праздничных действ и поведение на празднике довольно сомнительно.
Перспективы изучения церковного праздника как многогранного явления повседневной жизни традиционных локальных сообществ Карелии в доиндустриальную эпоху
Е.Д. Суслова
Повседневная жизнь народов Карелии раннего Нового времени известна в самых общих чертах. Ей преимущественно посвящены небольшие экскурсы в фундаментальных трудах историков и этнологов. Доскональное знакомство со всем комплексом олонецких актов укрепило мою решимость тщательно проанализировать их и представить предварительные результаты, насколько это возможно, в рамках научной статьи. Обсуждаемое исследование посвящено церковному празднику в Олонецком крае в XVII в. Эта тема в этнологическом дискурсе поднимается впервые. Высказанные с опорой на данные этнографии XIX–XX вв. уважаемыми оппонентами замечания, предложения и дополнения крайне ценны для дальнейшей разработки принципов изучения традиционного праздника в целом и его структурных компонентов в доиндустриальную эпоху с помощью метода диахронного сравнения в рамках междисциплинарного подхода.
Наиболее плодотворным представляется не просто реконструирование основных компонентов праздника, но изучение их в процессе трансформации под влиянием множественных факторов: политики государства и Церкви в отношении приходских сообществ; социально-экономических перемен; изменений поселенческой системы. Тезис о недюжинной силе традиций, подкрепляемый, в частности, фактом приверженности многих поколений жителей Карелии староверию, недостаточно убедителен: вряд ли можно утверждать, что за прошедшие века праздничные традиции не изменились и в конце XIX – начале XX в. ученым удалось уловить восходящую к Средневековью архаику. Приходится констатировать, что и сегодня история старообрядчества на уровне локальных общин Олонецкого края в XVIII в. требует пристального изучения. Знаток судеб поморского староверия XVII – первой трети XVIII в. А.Н. Старицын убежден, что только вступление России “в затяжную Северную войну” предотвратило разорение властями последних сохранявшихся к концу XVII в. поселений староверов в бассейнах рек Выга, Водлы и Андомы. В этот период ресурсы государства “были направлены… на решение… военных задач”, в то время как “церковная политика (в том числе и борьба со староверием) заняла второстепенное место”, и отношение к староверам стало весьма “прагматичным” (Старицын 2023: 214). Изменилось направление церковной политики: внимание Церкви и государства переключилось на решение проблем, связанных с материальным обеспечением клира и поддержанием благолепия в храмах (Freeze 1976: 36). Фундированный анализ исповедных ведомостей и документов Олонецкой духовной консистории XVIII – начала XIX в. позволяет заключить, что именно в этот период сокращается церковно-приходская система Олонецкого уезда. Ослабление контроля церковной администрации за духовной жизнью мирян привело к возрождению дохристианских традиций и расцвету староверия в крае. Однако уже в 1800–1820-х годах государство и Церковь начинают предпринимать активные меры, чтобы сохранить и поддержать чистоту православной веры (Freeze 1990: 107). Безусловно, подобные перемены не могли не сказываться на судьбах староверия в регионе.
Следует еще раз подчеркнуть специфику исследуемого источника – олонецких актов – и остановиться подробнее на избранных подходах к интерпретации этих документов. В материалах судебных дел отсутствуют пространные свидетельства о церковном празднике как таковом. Внимание приковано к выяснению обстоятельств совершения проступков, установлению виновников и определению меры наказания. Тем не менее в сиюминутных ситуациях составления разнообразной документации свидетели проступков и преступлений – представители крестьянского локального сообщества – упоминают о тех или иных сторонах праздника, хорошо знакомых им и потому не требовавших объяснений. Мозаика крошечных деталей, безыскусно и непредвзято зафиксированных, не отягощенных пластами исторической памяти, приоткрывает перед нами завесу времен.
В отличие от полевых материалов XX в. олонецкие акты показывают церковный праздник с непривычной стороны. Собственно, эти документы не предоставляют в распоряжение ученых прямые данные о том, как совершалось поминовение усопших в день Радуницы в домах мирян, или о том, как вели себя верующие во время праздничных богослужений. Тем не менее в актах – и не только олонецких – содержится информация о составе участников трапез, приуроченных к празднику, о потреблявшихся блюдах и напитках, о совершении крестных ходов, о разворачивавшихся близ церквей народных гуляниях. Безусловно, с опорой на акты можно изучать особенности проявления девиантного поведения во время праздника. Однако выбор подобного ракурса однозначно перемещает фокус исследования с избранного предмета (церковный праздник и его составляющие) на отношения внутри крестьянской общины и возникавшие в ней социальные конфликты. Знаток олонецких актов Т.В. Старостина в свое время подчеркнула, что конфликты не были чем-то исключительным в повседневной жизни общин. А в 1660–1670-е годы, согласно данным историка, отмечалось увеличение количества драк, случаев поджогов дворовых построек, воровства, ограблений и убийств, что было обусловлено углублением имущественной и социальной дифференциации в крестьянской среде (Старостина 1957: 42, 46).
Круг выявленных в документах фонда “Олонецкая воеводская изба” житейских казусов – “образцов маргинального поведения” – действительно пока еще небольшой. Вне всякого сомнения, сами по себе эти случаи являются скорее “исключением из правил”, чем примерами обыденной жизни. Однако именно такие “исключения из правил”, которыми пренебрегали и которые рассматривались как “частные вещи”, “поверхностные феномены”, хотя и наделенные “значительным своеобразием”, по мнению ярчайшего представителя микроисторического подхода К. Гинзбурга, в итоге стали “ключами” к дешифровке глубинных фундаментальных феноменов “значительной важности” (Гинзбург 2004: 195, 225). Изучение житейских казусов, содержащих сведения о, казалось бы, частных вещах (ссорах и драках на празднике), позволяет тем не менее приступить к реконструкции церковного праздника, его основных структурных компонентов. При этом анализ актов требует применения феноменологического подхода, отрицающего саму возможность механического извлечения фактов для выстраивания рядов схожих явлений с целью их последующего системного анализа. Каждый акт рассматривается как уникальное явление культуры и одновременно как элемент, находящийся в тесной взаимосвязи со всем комплексом сохранившихся письменных источников – другими актами приказного делопроизводства, переписными книгами, законодательством (Румянцева 2017).
Специфика зафиксированной в актах информации действительно ставит на пути диахронного сравнения структурных элементов праздника определенные преграды, которые, однако, преодолимы. С опорой на содержащиеся в актах сведения в первую очередь могут быть реконструированы ареалы праздничных связей и состав участников торжеств. Мнение этнологов об ареале праздничных связей опирается на полевые материалы XIX–XX вв., фиксирующие традицию “праздничной гостьбы в крестьянских домах: сначала преимущественно по родству, затем – с постепенным расширением круга посторонних” (см. реплику И.Ю. Винокуровой). Данные этнографии свидетельствуют о присутствии на таких праздниках строго жителей одного поселения. В качестве примера приводятся факты празднования у финнов, карел и ижор в середине XIX в., в день Ильи Пророка, родового праздника vakkove (vakka), посвященного верховному богу Укко. Согласно обычаю, участники празднества в этот день выгоняли крестьян, прибывших из других деревень. Этнологи считают, что на храмовых праздниках, которые «“впитали” от прежних празднеств прибалтийско-финских народов их древнюю организацию» (Там же), присутствовали жители близлежащих поселений (гнезда), составлявших территорию патронимии, и, возможно, небольшое число “людей разного социального статуса”, приехавших из разных мест и в тот же день отправлявшихся в обратно.
Выдвигаемое применительно к реалиям XVII в. положение о родовом характере церковного праздника, несмотря на все приводимые аргументы, нуждается в дополнительном всестороннем осмыслении. Следует прежде всего иметь в виду, что поселенческая система края на протяжении трех столетий претерпела серьезные изменения. Погосты и выставки, на которых стояли приходские храмы, как отметила И.А. Чернякова, за редким исключением представляли собой поселения, включавшие “дворы церковных служителей, несколько келий нищих старцев и стариц и иногда бобыльские дворишки”. В Заонежских погостах среднее число дворов в поселениях, несмотря на тенденцию к увеличению, составляло от 1,7 до 7,2 (Чернякова 1998: 94, 96). В Лопских погостах, кроме “собственно погостов-мест”, были “волостки” – поселения, представлявшие “собой редкие скопления отдельно стоявших тяготевших друг к другу дворовых комплексов”, “разбросанных на значительных пространствах среди лесов, озер и болот” (Там же: 265). Своеобразие поселенческой системы убеждает в том, что церковный праздник изначально охватывал не одно поселение, а куст или даже несколько кустов, “тяготевших” к погосту или выставке.
Ареал праздничных связей такого храмового типа праздника вряд ли обуславливался только стремлением поддерживать широкие семейно-родственные связи на уровне патронимии. В Олонецком уезде, в отличие от других регионов Русского Севера, в XVII–XVIII вв. продолжала функционировать архаичная система погостов-округов (Неволин 1853: 236; Папков 1898: 26). Погост выступал не только поселением, но также основным административно-территориальным образованием. Возникшие на его периферии кусты поселений (“выставки”, “волостки”) и филиальные церкви, воздвигнутые их жителями, за редким исключением, не смогли обрести в XVII в. самостоятельного статуса (Жуков 2013: 47). Сохранялись прочные административные, хозяйственные, церковные – иерархичные по существу – связи между погостом и входившими в его состав “волостками”, так же как и между общинами разного уровня – погостской и выставочными.
Кроме того, специфика прихода Средневековой Руси состояла в том, что вплоть до конца XVI в. он повсеместно территориально совпадал с поземельной общиной и волостью (Стефанович 2002: 241, 243). На Русском Севере тождество прихода, общины и волости сохранялось значительно дольше – вплоть до первой (1797 г.) и второй (1837–1841 гг.) реформ государственной волости (Камкин 1994: 94, 97). Выступая не только религиозной ячейкой, но и одной из основных социальных микроструктур, приход выполнял в том числе “внерелигиозные” функции: судебно-административные, хозяйственные и культурные (Знаменский 2003: 51; Freeze 1976: 34). Крестьянская община, она же община приходская, “брала на себя рутинные функции самоуправления и делала приходскую церковь своим административным центром” (Богословский 1912: 21; см. также: Freeze 1976: 35). Решение всех наиболее значимых дел было приурочено к дням церковных праздников, что позволяет объяснить, “почему многие важные даты в средневековом праве – например день Святого Георгия в крепостных отношениях – совпадали с религиозными праздниками” (Знаменский 2003: 55; см. также: Freeze 1976: 35). Материалы судебных дел из фонда “Олонецкая воеводская изба” ярко свидетельствуют о том, что истцами и ответчиками являлись крестьяне, пришедшие к церкви из соседних кустов поселений с разных концов погоста не только для того, чтобы навестить родственников и приобщиться к храмовому празднику, но и чтобы уладить свои дела и реализовать право на участие в мирском самоуправлении. Храмовый праздник был праздником всего “мира”, т.е. крестьянской общины. На общинные связи накладывались связи семейно-родовые.
В рассуждениях об ареале праздничных связей недопустимо смешивать свидетельства, относящиеся к разным видам праздников – общецерковным, храмовым, родовым (семейным). И хотя приводимые этнологами данные позволяют заключить, что общецерковные праздники нередко сливались с праздниками родовыми (семейными), восходящими к дохристианским верованиям, проводить прямые аналогии между ними вряд ли правомерно. Престольный праздник мог впитать в себя традиции праздника родового, но родовым по существу в XVII в. он не являлся.
В подкрепление идей о том, что с древности состав участников церковного праздника ограничивался кругом родственников и что традиции гостьбы по родству в крестьянских домах восходят к Средневековью, этнологи предлагают собственную трактовку состава незваных гостей4, о которых говорится в жалованных и уставных грамотах великих князей и митрополитов XIV–XVI вв. игуменам монастырей и общинам черносошных крестьян. А.А. Папков одним из первых в свете феноменологического подхода интерпретировал слово “никто” в клаузуле, открывающейся фразой “а на пиры и в братчины не ходит незван никто” (Папков 1897: 50). Отказываясь привносить собственные идеи на этот счет, исследователь обратился к изучению всей совокупности доступных ему грамот и пришел к заключению, что “в других грамотах прямо” перечислены “тиуны и иные наместничьи люди и волостелины и боярские люди, и воротники”. Приезжая “в качестве незваных гостей… на народные праздники не столько для пирования и дарового угощения, сколько с целью взыскания… поборов с братчин, деньгами и натурой” за варение пива и меда, курения вина в пользу казны, а также на свое содержание, эти лица часто злоупотребляли своей властью (Там же: 51–52). Поэтому государство, признавая древний обычай крестьян “составлять сходки и собрания для совокупных дел и совокупного празднования”, “оберегало [их]… от своих же собственных чиновников”, запрещая “ездить на братчины незваными” (Там же: 50). При этом под “братчиной” А.А. Папков понимает не только форму трапезы, но и саму крестьянскую общину, члены которой являлись между собой “братьями” по вере (Там же: 1).
Л.В. Черепнин полагал, что появление в княжеских жалованных грамотах, дарованных Троице-Сергиеву монастырю, «специальных статей, запрещающих посторонним людям приезжать “незваными” на “пиры” и “братчины” к крестьянам» промысловых и торговых сел, объяснялось скоплением народа на “пирах”, что приводило “к… нарушениям установленного феодалами в своих имениях правопорядка, к уголовным преступлениям, а иногда, быть может, и к социальным волнениям” (Черепнин 1960: 308). К указанным А.А. Папковым незваным гостям Л.В. Черепнин добавляет «великокняжеских или боярских “сельчан”». Ученый полагал, что включение в число незваных гостей крестьян других собственников было напрямую связано с проявлением “вражды между крестьянами отдельных владельцев”, достаточно широко распространенной, и стремлением государства защитить “интересы вотчинников” (Там же: 310).
М.М. Громыко свое исследование, посвященное пирам, которые в XIX в. устраивались однодеревенской общиной, предваряет небольшим экскурсом в прошлое, призванным подкрепить мысль автора об особой роли “мира” – т.е. крестьянской территориальной общины, включавшей в себя разного рода малые общности (половозрастные, родственные, соседские, хозяйственные), – в сохранении подобных “традиционных форм общения, истоки которых прослеживаются с древнейших времен” (Громыко 1986: 23–24, 132). М.М. Громыко не утверждает, что совместные трапезы в XIV–XVI вв. проводились жителями отдельных деревень, как в XIX в. Обращение к грамотам убеждает нас в том, что в текстах нет прямых указаний на то, сколько поселений охватывали пиры. Грамоты содержат лишь перечень привилегий, которые великие князья и митрополиты предоставляли общинам черносошных волостей и монастырских вотчин, проживавшим на территории, охватывавшей сразу несколько сел или деревень. Так же, как и А.А. Папков, М.М. Громыко отметила различия в формулировках приведенной выше клаузулы: “…в одних случаях указывается, что никто не должен являться на братчины незваным, в других – запрет отнесен только к наместничьим людям или к боярам и детям боярским” (Громыко 1986: 133). Исследователь далека от мысли, что под словом “никто” следует иметь в виду чужаков, не связанных родством с жителями поселения, где разворачивался пир. Напротив, она подчеркивает, что “речь идет, разумеется, не о крестьянах соседних деревень, а о защите от наездов служилых людей феодалов, требовавших угощение себе и своей свите” (Там же).
А.Л. Хорошкевич, проанализировавшая еще более широкий круг грамот середины XV – начала XVI в., заключила, что в них «отчетливо прослеживаются две группы пришельцев: “сельчане” и представители княжеской администрации» (Хорошкевич 1987: 186). Рассуждая о составе “сельчан” на праздниках и о возникавших между “своими” и “чужими” эксцессах, А.Л. Хорошкевич соглашается с Л.В. Черепниным в том, что “речь шла о конфликтах крестьян разных владельцев и разных социальных статусов”, которые княжеская администрация стремилась пресечь (Там же).
В свете выводов, сформулированных историками – сторонниками феноменологического подхода к анализу источника, следует признать, что грамоты не содержат свидетельств, которые подтверждали бы родовой характер пира (= праздника). Идея взаимосвязи между пирами, зафиксированными этнологами в конце XIX – первой трети XX в., и пирами, упоминаемыми в грамотах XVI в., – допустима. Однако допустимость идеи – еще не основание для утверждения, что под словом “никто” составитель грамот имел в виду чужаков, не связанных родством с жителями поселения, где происходил пир (= праздник). Историки убедительно показывают, что в эпоху позднего Средневековья пир (= праздник) мог быть как общинным, так и родовым. Поэтому выдвигаемый этнологами тезис о незваных гостях на празднике представляется произвольной интерпретацией источника. Высказанная Л.В. Черепниным мысль о том, что разворачивавшиеся на престольном празднике социальные конфликты становились причиной ограничения состава его участников членами территориальной общины, применима (в свете анализа олонецких актов) не только к Северо-Восточной Руси. В то же время, изменение состава участников престольного праздника стало неизбежным следствием размывания былого единства прихода, общины и волости, постепенной утраты приходом внерелигиозных функций и превращения его исключительно в религиозную ячейку. Значимое влияние на сужение круга участников престольного праздника не могли не оказать традиции родовых (семейных) праздников.
Источники и материалы
Кудрявцев 1904 – Кудрявцев П. Краткое историко-статистическое описание Масельско-Паданского прихода Повенецкого уезда Олонецкой губернии // Олонецкие епархиальные ведомости. 1904. № 19. С. 580–584.
Куликовский 1888 – Куликовский Г.И. Иванов день в селении Кузаранде, Петрозаводского уезда (Корреспонденция Губ. Вед.) // Олонецкие губернские ведомости. 1888. № 54 (16 июля). С. 515–517.
Линевский 1936–1937 – Линевский А.М. Материалы по этнографии и обычному праву карел Сегозерского района // Архив КНЦ. Ф. 1. Оп. 32. Д. 237: Археолого-этнографический сборник (сост. А.М. Линевский). 1936–1937. Л. 193.
Описание приходов 1896 – Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской Епархии. Вып. 3. Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. Архангельск: Изд-во Архангельской церковно-археологической комиссии, 1896.
Петропавловский б.д. – Петропавловский А., священник. Этнографические сведения о Янгозерском погосте, Повенецкого уезда // Архив Русского географического общества (РГО). Фонд Олонецкой губернии. Р. 25. Оп. 1. № 34. Л. 39–40.
1 В 1762 г. вышел именной указ Петра III “о веротерпимости или о равенстве вероисповеданий”. Этим указом было прекращено физическое преследование старообрядцев в России. Екатерина II позже подтвердила этот указ.
2 Думается, что в реальности доля старообрядцев была выше.
3 В Карелии эта традиция сохранялась местами вплоть до XIX в.
4 Следует подчеркнуть, что вопрос о том, кого подразумевали составители грамот под “незваным гостем” на празднике, имеет давнюю историографическую традицию, восходящую к XIX в.
About the authors
Irina Yu. Vinokurova
Institute of Linguistics, Literature and History of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: irvin@sampo.ru
ORCID iD: 0000-0003-1967-7911
д. и. н., ведущий научный сотрудник сектора этнологии
Russian Federation, PetrozavodskAlexey P. Konkka
Institute of Linguistics, Literature and History of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences
Email: aleksikonkka@hotmail.com
ORCID iD: 0000-0002-6837-5656
к. и. н., старший научный сотрудник
Russian Federation, PetrozavodskEvgenia D. Suslova
Petrozavodsk State University
Email: evgenia.suslova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-1017-8761
к. и. н., доцент кафедры зарубежной истории Института истории, политических и социальных наук
Russian Federation, PetrozavodskReferences
- Abrosimova, D.D. 2019. Prazdnichnyi kalendar’ russkih Zaonezh’ia [Holiday Calendar of Russians of Zaonezhye]. In Narody Karelii: istoriko-etnograficheskie ocherki [Peoples of Karelia: Historical-Ethnographic Essays], edited by I.Y. Vinokurova, 648–659. Petrozavodsk: Periodika.
- Alekseev, V.P. 1983. O razlichii sinhronnogo i diahronnogo sravneniia etnograficheskih yavlenii [On the Difference between Synchronous and Diachronic Comparison of Ethnographic Phenomena]. In Fol’klor i istoricheskaia etnografiia [Folklore and Historical Ethnography], edited by R.S. Lipets, 239–259. Moscow: Nauka.
- Baranov, D.A., and A.V. Konovalov, eds. 2008. Russkie krest’iane. Zhizn’. Byt. Nravy. Materialy “Etnograficheskogo biuro” kniazia V.N. Tenisheva [Russian Peasants: Life, Mode of Life, Manners: Materials of the “Ethnographic Bureau” of Prince V.N. Tenishev]. Vol. 6, Kurskaia, Moskovskaia, Olonetskaia, Pskovskaia, Sankt-Peterburgskaia i Tul’skaia gubernii [Kursk, Moscow, Olonetsk, Pskov, St. Petersburg and Tula Provinces]. St. Petersburg: Delovaia poligrafiia.
- Bernshtam, T.A. 1988. Molodezh’ v obriadovoi zhizni russkoi obshchiny XIX – nachala XX v.: polovozrastnoi aspekt traditsionnoi kul’tury [Youth in the Ritual Life of the Russian Community of the 19th – Early 20th Centuries: The Gender and Age Aspect of Traditional Culture]. Leningrad: Nauka.
- Bogoslovskii, M.M. 1912. Zemskoe samoupravlenie na Russkom Severe v XVII v. [Communal Self-Government on the Russian North in the 17th Century]. Vol. 2, Deiatel’nost’ zemskogo mira. Zemstvo i gosudarstvo [The Activity of the Peasant Community: Peasant Community and State]. Moscow: Sinodal’naia tipografiia.
- Cherepnin, L.V. 1960. Obrazovanie russkogo tsentralizovannogo gosudarstva v XIV–XV vekakh: ocherki sotsial’no-ekonomicheskoi i politicheskoi istorii Rusi [Formation of the Russian Centralized State in the 14th–15th Centuries: Sketches of Socio-Economic and Political History of Russia]. Moscow: Sotsekgiz.
- Freeze, G.L. 1976. The Disintegration of Traditional Communities: The Parish in Eighteenth-Century Russia. The Journal of Modern History 48 (1): 32–50.
- Freeze, G.L. 1990. The Rechristianization of Russia: The Church and Popular Religion, 1750–1850. Studia Slavica Finlandensia 7: 101–136.
- Ginzburg, K. 2004. Mify – emblemy – primety: morfologiia i istoriia [Myths – Emblems – Omens: Morphology and History]. Moscow: Novoe izdatel’stvo.
- Gromyko, M.M. 1986. Traditsionnye normy povedeniia i formy obshcheniia russkikh krest’ian XIX v. [Traditional Norms of Behavior and Forms of Communication of Russian Peasants of the 19th Century]. Moscow: Nauka.
- Haavio, M. 1961. Kuolematontenlehdot. Sämpsöi Pellervoisen arvoitus [Groves of the Immortals. Sämpsöi Pellervoinen’s Riddle]. Porvoo: WSOY.
- Haavio, M. 1963. Heilige Heine in Ingermanland [Saint Heine in Ingermanland]. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.
- Harva, U. 1948. Suomalaisten muinaisusko [The Ancient Belief of the Finns]. Helsinki, WSOY.
- Kamkin, A.V. 1994. Severnorusskii sel’skii prikhod XVIII v.: prostranstvo, naselennost’, klir [Northern Russian Rural Parish of the 18th Century: Space, Population, Clergy]. In Kul’tura Russkogo Severa: mezhvuzovskii sbornik nauchnykh trudov [Culture of the Russian North: Interuniversity Collection of Scientific Papers], edited by A.N. Bashen’kin, 91–108. Vologda: VGPI.
- Kettunen, L. 1918. Vepsäläisten jurgin-praznikassa [Jurgin-praznika of the Vepsians]. Suomalainen Suomi 3: 88–94.
- Kirkinen H. 1970. Karjala Idän ja Lännen välissä [Karelia between East and West]. Vol. I, Venäjän Karjala renessanssiajalla (1478–1617) [Russian Karelia during the Renaissance (1478–1617)]. Helsinki: Kirjayhtymä.
- Khoroshkevich, A.L. 1987. “Nezvanyi gost” na prazdnikakh Srednevekovoi Rusi [“An Uninvited Guest” at the Festivals of Medieval Russia]. In Feodalizm v Rossii: sbornik statei i vospominanii, posviashchennykh pamiati akademika L.V. Cherepnina [Feudalism in Russia: Collection of Articles and Memoirs Dedicated to the Memory of Academician L.V. Cherepnin], edited by V.L. Yanin, 184–192. Moscow: Nauka.
- Konkka, A.P. 1980. Traditsionnye sel’skie prazdniki [Traditional Rural Holidays]. In Duhovnaia kul’tura segozerskikh karel kontsa XIX – nachala XX v. [Spiritual Culture of Segozero Karelians of the Late 19th – Early 20th Centuries], edited by E.I. Klement’ev, 89–100. Leningrad: Nauka.
- Konkka, A.P. 2014. Zhertvoprinosheniia zhivotnykh na letnikh kalendarnykh prazdnikakh karel (materialy k opisaniiu obriada) [Sacrifices of Animals during the Summer Calendar Celebrations of the Karelians (Materials for the Description of the Rite)]. In Na plechakh Bol’shoi Medveditsy: Izbrannye stat’i [On the Shoulders of Ursus Major: Selected Essays], by A.P. Konkka, 10–22. Petrozavodsk: Karel’skii nauchnyi tsentr RAN.
- Konkka, U.S. 2022. Vechnaia pechal’. Karel’skie obriadovye plachi [Eternal Sorrow: Karelian Ritual Lamentations]. Petrozavodsk: Common Place.
- Konkka, U.S., and K.K. Loginov. 2001. Budni i prazdniki: prazdnichnyi uklad [Weekdays and Festivals: Festive Practice]. In Derevnia Yukkoguba i ee okruga [The Village of Yukkoguba and Its Surroundings], edited by V.P. Orfinskii, 224–236. Petrozavodsk: Izdatel’stvo PetrGU.
- Loginov, K.K. 2010. Zaonezhskii prazdnik Radkol’skoe voskresen’e [Zaonezhsky Holiday Radkol Sunday]. In Prazdnichnye traditsii i novatsii narodov Karelii i sopredel’nykh territorii: issledovaniia, istochniki, istoriografiia [Festive Traditions and Innovations of the Peoples of Karelia and Adjacent Territories: Research, Sources, Historiography], edited by I.Y. Vinokurova, 37–46. Petrozavodsk: Karel’skii nauchnyi tsentr RAN.
- Nevolin, K.A. 1853. O piatinakh i pogostakh novgorodskikh v XVI v. [On Pyatinas and Pogosts of Novgorod Land in the 16th Century]. St. Petersburg: Tipografiia Imperatorskoi Akademii nauk.
- Nikol’skaia, R.F. 1981. Pishcha i kukhonnaia utvar’ [Food and Kitchen Utensils]. In Material’naia kul’tura i dekorativno-prikladnoe iskusstvo segozerskikh karel [Material Culture and Arts and Crafts of Segozero Karelians], edited by E.I. Klement’ev, 138–178. Leningrad: Nauka.
- Papkov, A.A. 1897. Drevnerusskii prikhod: kratkii ocherk tserkovno-prikhodskoi zhizni v vostochnoi Rossii do XVIII veka i v zapadnoi Rossii do XVII veka [Old Russian Parish: A Brief Outline of Parish Life in Eastern Russia Until the 18th Century and in Western Russia until the 17th Century]. Sergiev Posad: 2-ia tipografiia A.I. Snegirevoi.
- Papkov, A.A. 1898. Pogosty v znachenii pravitel’stvennykh okrugov i sel’skikh prikhodov v Severnoi Rossii [Pogosts as Administrative Districts and Rural Parishes in Northern Russia]. Moscow: Tovarishchestvo tipo-litografii V. Chicherin.
- Pimenov, V.V. 1965. Vepsy. Ocherk etnicheskoi istorii i genezisa kul’tury [Veps: Essay on Ethnic History and the Genesis of Culture]. Moscow; Leningrad: Nauka.
- Pryzhov, I.G. 2017. Ocherki russkogo byta [Essays on Russian Life]. Moscow: Institut russkoi tsivilizatsii.
- Rumyantseva, M.F. 2017. Istochnikovedenie v strukture istoricheskogo znaniia: neoklassicheskaia model' nauki [The Source Study in the Structure of Historical Knowledge: The Neoclassical Model of Science]. Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta 5 (166): 44–51.
- Sarmela, M. 1969. Reciprocity Systems of the Rural Society in the Finnish-Karelian Culture Area: With Special Reference to Social Intercourse of the Youth. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.
- Shchepanskaia, T.B. 1995. Krizisnaia set’ (traditsii dukhovnogo osvoeniia prostranstva) [Crisis Network (Traditions of the Spiritual Mastering of Space)]. In Russkii Sever: k probleme lokal’nykh grupp [Russian North: On the Issue of Local Groups], edited by T.A. Bernshtam, 110–176. St. Petersburg: MAE RAN.
- Staritsyn, A.N. 2023. Starovercheskoe dvizhenie v Pomor’e vo vtoroi polovine XVII – pervoi treti XVIII v. [Old Believer Movement in Pomorie in the Second Half of the 17th – First Third of the 18th Centuries]. St. Petersburg: Petroglif.
- Starostina, T.V. 1957. Bor’ba krest’ian Karelii protiv feodal’nogo gneta v 70-e gg. XVII v. (Massovye volneniia v Zaonezhskikh i Lopskikh pogostakh. Vosstanie Tolvuiskogo pogosta v 1678 g.) [Struggle of Karelian Peasants against Feudal Oppression in the 70s of the 17th Century (Mass Unrest in Zaonezhie and Lop’ Pogosts, Revolt of Tolvuya Pogost in 1678)]. Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta VII (1): 41–64.
- Stefanovich, P.S. 2002. Prikhod i prikhodskoe dukhovenstvo v Rossii v XVI–XVII vv. [The Parish and the Parish Clergy in Russia in the 16–17th Centuries]. Moscow: Indrik.
- Tcherniakova, I.A. 1998. Kareliia na perelome epokh: ocherki sotsial’noi i agrarnoi istorii XVII veka [Karelia at the Turning Point of Epochs: Essays on the Social and Agrarian History of the 17th Century]. Petrozavodsk: Izdatel’stvo PetrGU.
- Vinokurova, I.Y. 1996. Traditsionnye prazdniki vepsov Prionezh’ia (konets XIX – nachalo XX v.) [Traditional Holidays of the Vepsians of the Onego Region (Late 19th – Early 20th Centuries)]. Petrozavodsk: Izdatel’stvo PetrGU.
- Vinokurova, I.Y. 2011. Karely i vepsy: etapy i territorii etnokul’turnogo vzaimodeistviia [Karelians and Vepsians: Stages and Territories of Ethnocultural Interaction]. In Istoriko-kul’turnyi landshaft Severo-Zapada. Chetvertye Shegrenovskie chteniia [Historical and Cultural Landscape of the North-West: Fourth Sjögren Readings], edited by S.B. Koreneva and O.M. Fishman, 92–107. St. Petersburg: Evropeiskii Dom.
- Yakupov, R.I. 2013. V poiskakh traditsionnoi kul’tury. Arkhivno-etnograficheskaia evristika na materialakh CIA RB [In Search of Traditional Culture: Archival-Ethnographic Heuristics Based on the Materials of the Central Historical Archive of the Republic of Bashkortostan]. Ufa: Kitap.
- Zhukov, A.Y. 2013. Samoupravlenie v politike Rossii: Kareliia v XII – nachale XVII v. [Self-Government in Russian Politics: Karelia in the 12th – Early 17th Century]. Petrozavodsk: Karel’skii nauchnyi tsentr RAN.
- Znamenskii, P.V. 2003. Prikhodskoe dukhovenstvo na Rusi [The Parish Clergy of Rus’]. St. Petersburg: Kolo.
Supplementary files