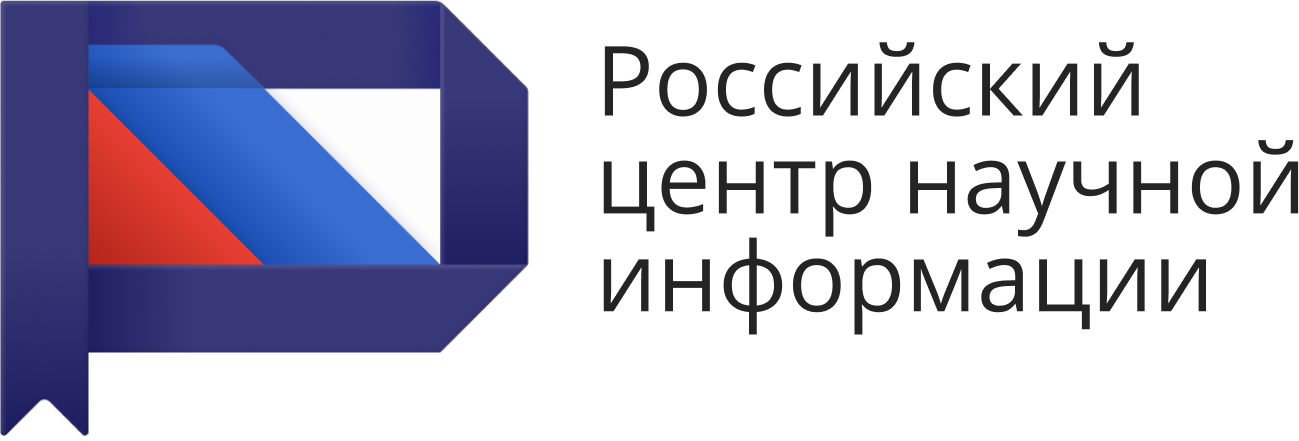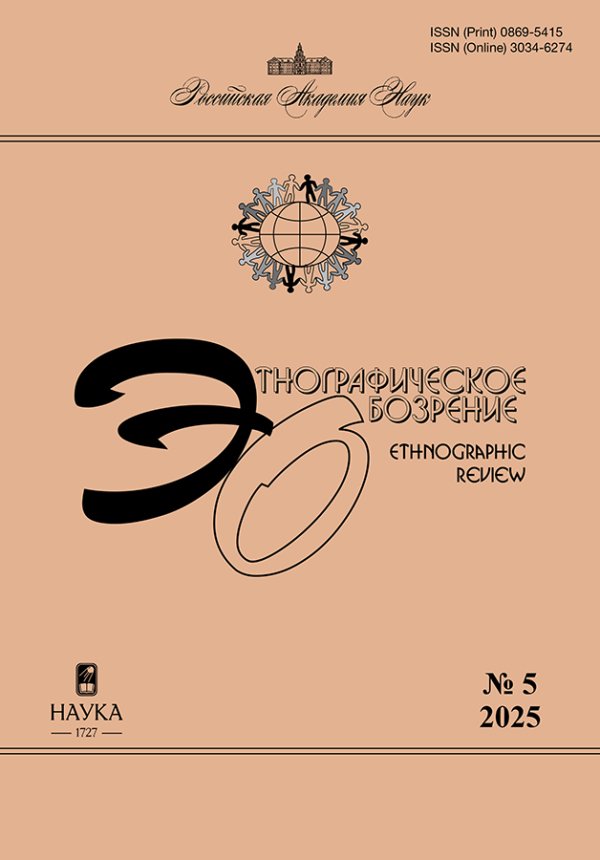Дивид на заимке, заимка как дивид: этнография сибирской избушки сквозь призму женского отсутствия
- Авторы: Рахманова Л.Я.1
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” в Санкт-Петербурге
- Выпуск: № 6 (2024)
- Страницы: 41-65
- Раздел: Специальная тема номера: Экономическая антропология домохозяйства современной России за пределами мегаполисов
- URL: https://journals.rcsi.science/0869-5415/article/view/276264
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869541524060035
- EDN: https://elibrary.ru/VTYQAU
- ID: 276264
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья этнографически ставит вопрос о том, каким образом таежные и речные избушки и заимки Среднего Приобья, существующие в своих ритмах параллельно с сельскими и городскими формами жизни, трансформируют гендерные роли и качества, не укладываясь в представления о должном поведении и практиках мужчин и женщин – ни в понимании местных жителей, ни с точки зрения исследовательницы. С одной стороны, заимка, включающая различные строения, – это ландшафтный феномен, интересный своим нетривиальным положением в пространстве – между дикой тайгой, селом и городом. С другой стороны, заимка, на которой царит мужское мироустройство, проблематизирует гендерное разделение и показывает, что именно женское “конституирующее” отсутствие является критически важным и влиятельным. Через опыт совместных поездок “на избушки”, через беседы, слухи и подшучивания я показываю, как снимается гендерная дуальность на заимке посредством распределения маскулинных и феминных элементов в пространстве избушечной жизни при помощи понятия “дивида” как “распределенной личности” и “распределенной самости”, как одного из языков описания различных форм субъективностей.
Ключевые слова
Полный текст
Сколько ни езди в гости по избушкам, не уловишь их атмосферу и внутреннее устройство, пока не переночуешь там. Что-то бросается в глаза сразу: например, нары, расположенные под углом 30° от пола (изголовье прибивали выше с учетом “осадки” сруба, но он так и не осел), с которых неизбежно сползаешь во сне. Какие-то моменты избушечного быта становятся очевидными только через неловкости и суету по хозяйству бок о бок с хозяином. Возможности женщины-исследователя, однако, ограничены, поскольку лишь поездка с ночевкой в большой компании не вызывает лишних пересудов: мол, друзья поехали “культурно отдохнуть” и порыбачить (поохотиться). Когда же сама дорога “на избушку” с учетом проверки ловушек занимает весь световой день, речь уже не идет о развлечении – и тогда стремление гостьи-исследовательницы “тащиться за тридевять земель” вызывает вопросы.
“Он свозит тебя, но там ехать далеко, без ночевки не обойтись”, – сразу предупредила меня моя знакомая, хозяйка, в семье которой я жила в ходе одной из экспедиций. Любопытно, что о моей поездке в январе 2024 г. договаривается не ее муж, а она сама со своим другом-охотником (ПМА 2024: м. 63 лет, охотник)! Мне сказано было, что нужно подождать, пока охотник не вернется из тайги. В один из дней я получила сообщение: “Он вернулся и ждет твоего звонка”. Позвонила. Линия была занята, но адресат прервал разговор, чтобы ответить на мой вызов. Я разволновалась: сколько неудобств я доставляю человеку! Когда в ходе разговора я произнесла “поедем на Вашу заимку…”, мужчина сразу поправил меня: «Ну, у меня-то, конечно, не заимка, а всего лишь избушка, – и добавил: – Только ехать на “Буране” будем медленно, буранница не проторена, ловушки будем проверять. Так что тут хотя бы одна ночевка нужна. А там уж – как Вам понравится». И, сменив “регистр” обращения: “Тебя я не трону, даже не беспокойся, это все входит (в условия поездки. – Л.Р.)”. Я быстро ответила “хорошо”, однако предельная ясность фразы скорее создала атмосферу интимности между нами, нежели провела четкую границу и выстроила дистанцию. Ехать на двух снегоходах с хозяином избушки и проводником, которого я хорошо знала, не представлялось возможным: двухлыжный снегоход не прошел бы в тайге меж деревьев. Оставался только однолыжный “Буран”, а троих человек, даже с нартами, он не вытянул бы.
Оставалось несколько дней до поездки, и я решилась позвонить общей знакомой и спросить, насколько она считает такую поездку вдвоем безопасной и допустимой.
– Ты даже не переживай! Он обходительный, настоящий джентльмен [подчеркивает]! Пожрать тоже сготовит, голодной не останешься!
– О, об этом я не переживаю, меня не еда волнует.
– Я его знаю очень много лет. Тем более уже в годах. Так что по этой части [подчеркивает] даже не переживай!
Муж хозяйки, сидевший рядом, уловив с этих слов суть разговора, крикнул мне с дивана, чтобы было слышно в трубку:
– Да что ты переживай, дурочка! Наоборот! Поедете, порадуете хоть друг друга напоследок!
– Не слушай его, он дурак – перебила жена. – Я тебе отвечаю – все будет хорошо (ПМА 2024: ж. 67 лет, м. 60 лет, рыбак).
Единственное, что я могла сделать, – попросить знакомого проводника подвезти меня к месту старта. Оставив мужчин пить кофе и разговаривать, я отправилась в другую комнату надевать комбинезон и утепляться; требовалось время, чтобы меня представили охотнику так, как это положено, и чтобы было ясно, “от кого” я приехала. В дороге мы делали несколько остановок: чтобы проверить ловушки с соболями (сезон официальной охоты как раз закрывался), чтобы чай попить в переходно́й избушке (см. Рис. 1) и просто по разным нуждам. Спрятаться за дерево было невозможно, приходилось деликатно отворачиваться и созерцать рассвет. Ночью же, когда осины трещали от 30-градусного мороза и рядом завывали волки, я, выходя из избушки одна, даже сетовала на необходимость дистанции и разделения мужского и женского: свет фонарика был слабым утешением посреди тайги.
Рис. 1. Переходна́я избушка. Март 2024 г. Фото автора
По приезде на избушку хозяин взялся за печку и за приготовление еды, не сразу доверив мне те заботы, которые считались женскими. Я привезла с собой котлеты из щуки, он – отварной лосиный язык. Мужчина с гордостью признался мне, что всю ночь варил его, чтобы было чем накормить девушку в тайге. Чувствовалось, что он ждал моей оценки его как кулинара и рачительного домохозяина. Нарезая мясо без доски, он спрашивал: “Эко ловко у меня получается, да ведь?”, ожидая восхищения его навыками.
Перекусив, мы отправились проверять ловушки по путику – маршруту, прокладываемому на охотничьих лыжах. Мужское и женское вновь всплыло в наших разговорах, как и тема заботы о потомстве, когда охотник стал обучать меня отличать следы самца соболя от следов самки. Это была не просто “таежная грамотность”, но знание из необходимости: в феврале, если следы самок появляются рядом с ловушкой, ее нужно снять, чтобы невзначай не убить самку накануне весны. В этот момент я почувствовала, что пол таежного пушного зверя оказывается более маркирован в нашем общении и совместных практиках, нежели самоощущение и представления о феминности и максулинности.
Когда мы вернулись в избушку, мне уже доверили нарезать лук и приготовить стол к трапезе. Хозяин сказал: “Теперь я наконец понял, зачем ты сюда поехала. Я ведь в тайге смотрю на человека, и, считай, я его уже знаю. Так я знаю тебя: тайга – это твое. А я-то поначалу ломал голову, как мы поедем, да пересуды, да то да сё”. Иными словами, локализовав меня на своей “карте” статусов и идентичностей, он нашел опору, чтобы интерпретировать нашу совместную поездку как “незазорную” в плане сближения мужского и женского в тайге, где проверка ловушек по путикам – это “мужское”.
Позднее он говорил и о том, что чувствует себя самим собой именно в тайге, на избушке, а не в поселке. Это пересекалось со свидетельствами других охотников, подчеркивавших, что здесь они ощущают себя “настоящими мужчинами”, поскольку делают все сами – от охоты до мытья посуды и готовки. В этой ситуации, как ни странно, умение обстоятельно исполнять “женские” обязанности – это не зазорно, а, напротив, позволяет им чувствовать себя более мужественными и быть таковыми в глазах друзей.
Мужское и женское: разделение, слияние и пересечение
В эти дни – и при подготовке к поездке вдвоем, и в неловкие моменты в пути и во время ночевки – везде проявлялось разделение мужского и женского, их слияние и пересечение. Словно избушка в тайге оказывалась неким “референтом”, через который определялись гендерные состояния и самоопределения, в том числе нетипичные. Для того, чтобы, не боясь людских толков, поехать вдвоем в тайгу, наши гендерные различия нужно было исключить, стереть, а для того, чтобы внутри этой ситуации заботиться о напарнице (или о напарнике), – их нужно было вновь артикулировать. В этой игре и перетекании женских и мужских ролей и качеств между нами в социальном и физическом пространствах таежной избушки я более четко сформулировала свой исследовательский вопрос: почему именно в контексте постсоветских избушек и заимок оказывается столь выпуклым несоответствие между представлениями о маскулинности/феминности местных жителей и рутинными практиками их таежного труда и досуга?
К гендерной маркированности добавлялась также всюду сквозящая “тяга” мужчин к таежной жизни, где они были одновременно и женщиной, и мужчиной в хозяйственном (“ойкономийном” [см. статью Н.В. Ссорина-Чайкова в наст. выпуске]) смысле этих ролей. В таежной избушке “женские” обязанности готовки и домашней работы делают охотников более мужественными, тогда как “ойкономийная” забота о живущих вокруг них самках и самцах соболя, лося и др. – это забота людей о биологической роли нечеловеческих субъектов, которые тем не менее прекрасно знают “свое место” и нишу. Забегая вперед, можно сказать, что мужские и женские обязанности и роли не складываются в мужскую и женскую базовую, индивидуальную “природу” (идентичность), а, напротив, распределены по разным “базам” (избушка, заимка, поселок). Меня будет интересовать это распределение и как “пространство”, и как “деление”, где быть индивидом – значит делиться по этой территории: по тайге, таежным избушкам/заимкам и поселкам на Оби. Важно, что подобное деление не означает просто указание на “множественность” идентичностей – в этом мне помогает теория Г. Бейтсона, критически преодолевшего понятие “множественной личности” и дуальности (Bateson 1958: 183). Множественность не означает плюрализм, где есть много мнений цельных субъектов или голосов внутри одной личности, а каждый голос похож, в свою очередь, на цельный субъект. Дивид на перекрестье отношений мужчин, женщин и их наследников проявляется не в процессе умножения идентичностей и личностей одного субъекта, а именно тогда, когда он (субъект) действует уже как часть, как результат деления, проявляя порой противоположные черты. Как я покажу ниже, это распределение концептуально “складывается” в понятие “дивид” (dividual [Strathern 1988]), а сама распределенность личности (distributed personhood [Gell 1998]) нуждается в этнографической и теоретической рефлексии, будучи свойством не только пространства, но и отношений обмена – “дележа”.
Много избушек – много мест ожидания: не-у-местность женщин
На другое утро мы отправились “в гости” на соседнюю заимку, на которой (в отличие от избушки с баней, где мы ночевали) было несколько надворных построек: баня, дровяник, крытый двор, навесы и даже молельная часовня. Мы прибыли раньше хозяина, успели разложить съестные припасы у него на столе (войти в дом без его присутствия друзьям разрешалось). Когда молодой охотник приехал, мы уселись пить чай с “моими” котлетами и “его” пирогами, собранными ему в дорогу женой.
Пожилой охотник (П.о): Кстати, вот ты спрашивала: тут, на этой заимке, как раз не было женщин.
Л.Р. Ни разу?
Молодой охотник (М.о): Ни разу. А что им тут делать? Брать с собой на охоту опасно. Еще в раже погонишь зверя и ее потеряешь.
Л.Р.: А если она как хозяйка будет ждать Вас домой и готовить?
М.о.: Тоже не пойдет. Вдруг я погоню лося далеко и придется заночевать на переходной избушке? А связи нет, она и не будет знать, что со мной – то ли пропал, то ли заночевал в другом месте. Нет, ей тут не место. Да и зачем? На ближнюю избушку я жену брал, так и то только для того, чтобы она там отсыпалась от работы: связь там не берет, ее звонками не тревожили. Она спала, а я пока охотился.
Интересный феномен избушки: хозяйка не может ждать мужа “дома”, потому что он может не вернуться в этот дом, а заночевать в другой избушке (переходно́й) (см. Рис. 1). Чтобы в тайге складывались классические семейные отношения, избушка должна быть одна, и она должна быть единственной точкой возврата. Однако, когда из избушек складывается целая пространственная система, это наводит на мысль о том, что перед нами уникальное домохозяйство, которое территориально и (в некоторой степени) гендерно распределено. И здесь я обращаюсь к идеям А. Джелла (Gell 1998, 2006), которые помогают понять различия между заимкой и избушкой в интерпретации части моих собеседников. Если использовать предложенную А. Джеллом метафору китайского сервиза как “распределенного объекта”, у которого есть “много пространственно отделенных частей с разными микроисториями” (Gell 1998: 221), то заимка – чайный сервиз, включающий предметы разного назначения (см. Рис. 2).
Рис. 2. Таежная заимка как метафора “китайского сервиза” (иллюстрация понятия "пространственно-распределенный объект" А. Джелла). Рисунок А. Копыльцовой
Однако, если посмотреть внимательнее на историю с женой, которая сидит у окна избушки и ждет мужа, а муж, ушедший далеко в тайгу, ночует в другой избушке, станет понятно, что даже крупная заимка, состоящая из множества построек, – лишь часть “большого сервиза” (чайного и столового вместе), включающего не только все избушки, но и дом в поселке, и даже квартиру охотника/рыбака в городе (см. Рис. 3).
Рис. 3. Ландшафт промысловых таежных и речных избушек, представленный в виде “детской карты сокровищ”. Полевой сезон январь–май 2024 г. Рисунок автора
Эта “фрактальность” (Strathern 2004) избушечного хозяйства, сложная, неиерархизированная взаимовложенность элементов, позволяет поставить под сомнение тот факт, что, изучая социальную жизнь избушек, антрополог изучает элемент жизни какого-либо сельского локального сообщества (села N). Подчеркну: я не работаю здесь с понятием “общество”, тем более с понятием “сельское сообщество”, потому что те обменные операции, отношения, транзакции, которые разворачиваются в тайге и на реке, и “меньше”, и одновременно “шире”, чем некая поселковая социальность. Так, деревенские слухи, которые окружали меня постоянно во время исследования (включая слухи обо мне и моих информантах), их циркуляция подводят к идее о том, что можно не быть вместе и даже территориально не жить по соседству, но “собираться” вместе через сеть слухов и сплетен. Однако на моем примере видно, что эта сеть выходит за границы поселка.
Таким образом, я перехожу от идеи пространственно распределенных объектов к идее критики “индивида”, живущего в “обществе”. М. Стратерн показывает, что перед нами не “общество” в дюркгеймианском смысле – как структурное “целое” (whole), предшествующее своим элементам: индивидам, группам, отношениям; перед нами также не индивиды (в западной традиции понимания) как сущности, составляющие это “общество”. Однако понятие “открытое целое” (the open whole), предложенное Э. Коном (Кон 2018), показывает на примере этнографии народа руна, как можно провинциализировать даже такой устоявшийся доминирующий язык, представляющий концепцию общества и индивида как целых и неделимых. Подобно лесам Амазонии, сибирская тайга открывает для нас новые оттенки “целого” и “целостности”.
Для преодоления этих концептуальных и аналитических ограничений М. Стратерн вводит понятие “дивид” (dividual, т.е. “делимый”) в противовес понятию “индивид” (in-dividual – “неделимый”). Моя же задача показать в этой статье, почему дивид приближается к более точному объяснению жизни охотниками и рыбаками, а также почему представления о себе самом (переведенное на аналитический язык и как “самость”, и как “личность”) раскрывается во всей полноте именно через свое пространственное воплощение на избушках, заимках и за их пределами в тайге и на реке.
В этой статье я рассмотрю “распределение” (Gell 1998, 2006) в пространстве между поселком, заимкой и избушкой мужского и женского, а также их деление по отношению друг к другу в структуре сообществ и взаимоотношений на Обском Севере. Опираясь на этот язык, который возник в меланезийской этнографии, но был уже давно “распределен” самими авторами на другие контексты (Strathern 1988, 2004; Gell 1998, 2006), я покажу эвристические пределы понятий “общество” и “индивид”, а также пределы гендерных различений в этой сибирской “ойкономии”. Далее я буду обращаться к реперным точкам данного сюжета, используя концепт “дивид”, чтобы приблизиться к пониманию постсоветских форм жизни, развивающихся одновременно в разных локациях – в тайге, в городе и селе.
Как изучать избушки, живя в избушке: особенности полевой работы
Среднее Приобье богато на прибрежные (речные) и таежные (лесные) избушки, базы, заимки. Это исторически более поздний “слой” построек, нежели “кельи” старообрядцев, живших в лесах и на болотах без паспортов (последние из старожилов общин уходили из жизни в начале 2020-х годов), или поселки спецпереселенцев. Лес на протяжении веков был пронизан жизнью, он был разделен на угодья, незримые границы которых были настолько плотными, что говорить о лесе как о вместилище нетронутой, дикой жизни, не представляется возможным.
Регион Среднего Приобья – “дом” или малая родина моих информантов – уже более семи лет является местом моих исследований; с многими семьями я подружилась еще в 2017–2021 гг., когда изучала влияние климатических изменений на рыбный промысел и охоту. Поскольку у меня не было возможностей для экспедиций от полугода и более, я старалась “охватить” жизнь на берегах Оби в разные сезоны. Я понимала, что в поселке найду много собеседников и что сразу попасть на промысел не смогу. Поле, связанное с неформальным природопользованием, начиналось с разговоров о промысле до или после участия в нем, а также с помощи в “женской” работе с рыбой: вспарывание, сортировка, засолка, копчение, упаковка.
В ходе моих бесед с охотниками и рыбаками, хозяевами избушек, я постоянно слышала о непреодолимой “тяге” к тайге и реке, которая определяет все остальные мотивы деятельности мужчины в домохозяйстве, о невозможности долгое время находиться дома в покое и скуке. Разговоры о том, что деревня – “суета” и что на избушке можно побыть в тишине, прикоснуться к миру тайги/реки, отсылают к многочисленным этнографическим примерам, дающим трактовку гендерному разделению и тесной связи мужчин с дикой природой, глушью (wilderness) (см., напр.: “окружающий тропический лес… рассматривается как мужское убежище от женщин и от обычной жизни в поселении” [Gillison 1980: 143]). Таким образом, приезд исследовательницы и попытка везде “сунуть свой нос” воспринимались как вторжение в “мужской мир”, особенно на реке и в лодке: “женщина на корабле – быть беде!” (о неудаче рыбака как “удаче” антрополога см.: Rakhmanova 2023). В статье, опубликованной в 2019 г. в журнале “Этнографическое обозрение”, я упоминаю долгий путь выстраивания доверия до того, как меня взяли на ночную проверку самоловов (Рахманова 2019). Тогда я впервые попала “на избушку”, где ожидала выхода на промысел – но без ночевки. На этот раз, находясь в поле с января по май 2024 г., я изменила стратегию исследования: жила не в поселке, а на базе в избушке. Это был своего рода опорный пункт на пути к другим избушкам – место встреч и обсуждения новостей из жизни реки и тайги, которые, как правило, не доходили до села.
Моя статья опирается и на неформальные беседы, отмеченные мной в полевом дневнике, и на записанные интервью, в которых хозяин показывает избушку, рассказывает о ее истории, обсуждает со мной сопутствующие темы. Все разновидности речных и таежных избушек, упомянутых в статье 2019 г., мне удалось посетить лично, большую часть уже в 2022–2024 гг. либо в ходе промысла, если возникала такая оказия, либо по дороге на свою избушку, когда мы останавливались, чтобы обогреться и обсудить новости. Но именно длительное поле 2024 г. высветило мою оптику: я смотрю не из села (и города) на тайгу и реку как место промысла, а из тайги, обособленных избушечных домохозяйств на социальные формы отношений в сельской жизни. Такой подход снимает оппозицию город–деревня, превращая ее по меньшей мере в трехчастную структуру (город–деревня–заимка), где городские интересы могут быть сфокусированы на избушках и заимках, временами минуя деревню.
Выше я уже указала на первое отличие избушки от заимки: с пространственной точки зрения последняя – более комплексное образование, включающее множество построек, тогда как избушка может быть отдельно стоящим объектом. Однако есть и вторая, темпоральная логика отличия: согласно ей, избушка – оплот временного житья, а заимка – место постоянной жизни (как в случае старообрядцев, поселившихся в лесу без паспортов и прописки). Если исходить из этой классификации, предложенной информантами, то подавляющее большинство хозяйств в тайге и на реке – это именно избушки, а не заимки. Поэтому мое некруглогодичное присутствие в поле соответствует обычному ходу вещей, когда охотники и рыбаки выезжают в свои “владения” лишь периодически. Кроме того, как я показываю в сюжете, открывающем статью, моим исследовательским преимуществом были постоянные согласования “женского” визита на избушку (с ночевкой или без). Обсуждая границы допустимого, “что скажут люди”, что (не)принято, я многое узнавала о проблеме женского присутствия/отсутствия в мире избушек.
Деление, слияние, границы: как дивид и распределенная социальность проявляют себя в избушках
Прежде чем двигаться к этнографическим примерам, я поясню, в чем проявляется “дивид” в контексте избушечного быта и как “делимый” субъект связан с распределенной социальностью (по А. Джеллу) и распределенной самостью (по Э. Кону). М. Стратерн проводит различение между понятием “персона” – “производным от множественных идентичностей” единичной сущности индивида (как неделимого), с одной стороны, и понятием “дивид”, “сформированным из определенных мужских и женских элементов”, с другой стороны (Strathern 1988: 15). Чтобы увидеть “дивида”, я ищу различные виды “деления”, случаи проведения границы, классифицирования, а также внутреннего разлада людей, их разрыва между разными образами жизни (в тайге, на реке и в большом поселке).
С точки зрения персонификации это вопрос, на который ищут ответ мои информанты: “каков я настоящий?”, “что такое быть самим собой?”. Такие эмические категории отсылают скорее к слову “самость”, нежели к слову “личность”. И здесь моему этнографическому материалу ближе концепция экологии самостей Э. Кона. Однако у нее есть внутренние ограничения, поскольку Э. Кон рассматривает то, как распределенная самость увязывает между собой не только людей, собак, ружья и т.д. в единую личность (Кон 2018: 177), но не то, как распределенная самость может проявлять себя в ландшафте. Эту оптику предлагает нам концепция А. Джелла. Так, во введении я пишу, что мои собеседники не только ищут в тайге себя, но и “видят” сущность другого человека, “раскусывают” исследователя благодаря таежной проницательности. С точки зрения отстаивания “своего” – территории, имущества, семьи, угодий, добычи – надо всегда быть “и тут, и там” (Абашин 2016), т.е. в нескольких точках пространства, чтобы все контролировать. И в этом смысле моим героям, которые имеют дело с пространственно распределенными объектами (избушками, базами, домами, квартирами, причалами), очень важно действовать как “дивид” – в качестве разделенных, а не единых, целостных. При этом каждый “дивид” в каждый момент времени проявляет свои различные ипостаси в контексте разных социальных отношений.
Казалось бы, избушка – это мужской “домен”, где разворачиваются “чисто мужские” действия, связанные одновременно с поддержанием и жизни домохозяйства, и мужской идентичности. Возникает вопрос: насколько избушка выполняет в тайге и на реке функцию “мужского клуба” подобно гаражу в городе (Селеев, Павлов 2012)? Благодаря введению понятия “дивид” можно критически посмотреть на “целые области социальной жизни”, которые не просто “становятся очевидной заботой одного или другого пола, но требуют изучения их взаимосвязи или артикуляции” (Strathern 1988: 69).
Подобно меланезийскому материалу, который предлагает нам усомниться в том, что «мужские культы… самоочевидно направлены на “создание мужчин”» (Ibid.: 54), мой анализ поддержания жизни на избушках и обучения промыслу, направленных на создание “мужчин” и воспроизводство маскулинности в контексте постсоветской сельской Сибири, заставляет меня задаваться вопросом: действительно ли мужчины гендерно определяют себя через избушку, и ставит ли она под сомнение их маскулинность? Аттестуя мне своего знакомого, пожилой охотник отметил, что до встречи в зрелом возрасте со своей нынешней женой он был “никто, пил и жил с матерью”, именно жена “сделала его”, привела в дом. Пожилой охотник, когда оставил рыбацкий промысел и ушел с головой в охоту, подарил мужчине свои самоловы, проявляя уважение к его жене – своей давней подруге. Таким образом, этого мужчину “создали” две трансформации, два “дара”: дар любви и женского партнерства и полученные им в дар профессиональные снасти. И все же, отметил мой собеседник, ни одно ни другое не позволило ему стать настоящим мужчиной: он так и остался “сплетником, похуже женщин”. Этот сюжет показывает, что, когда мужчина выступает в женской роли по отношению к другим мужчинам и женщинам, проявляя свою “дивидность”, это проявление не всегда является функциональным и созидательным, а “мужественность”/“женственность” будет не обязательно “делимой”, она может намекать на целостность, которая не всегда обозначается как “андрогинность”.
Казалось бы, “мужчины – это культурный артефакт, а женщины (в гораздо более фундаментальном смысле) – просто те, кем они родились” (Read 1984: 221). Но в моем случае именно женщины – “артефакты”, сделанные социальными благами государства (материнским капиталом, пенсией, зарплатой) и “делающие” семью и домохозяйство, связывая их финансово и материально с социальной инфраструктурой села, города и их бюрократическим потенциалом. Выплаты многодетным матерям могут помогать обеспечивать лесное хозяйство, закупать продукты, бензин и другие товары для его содержания (Ssorin-Chaikov 2003: 182–188), но могут и оседать в поселке, и не быть “поделенными” с тайгой – как это происходит в Среднем Приобье с различными формами государственной поддержки.
Однако, следуя за гендерной оппозицией “созданного культурой” и “естественного” (близкого к природе), М. Стратерн делает смелое утверждение о незащищенном положении мужчин, которые находятся под серьезным давлением вопросов идентичности (Strathern 1988: 63). Действительно, в рассматриваемом здесь сибирском контексте мужчины, оказываясь в “слабой” позиции (часто без работы или будучи на пенсии), не приносящие в домохозяйство “крепкий рубль” (см. статью Д.В. Терешиной в наст. выпуске), обретают в лесном ландшафте свою идентичность и укрепляют маскулинность – через разрыв, отделение от женщин и мира деревни, а также через соприкосновение с нечеловеческими силами и субъектами.
Так или иначе бегство, уход, изоляция, разрыв – все это процедуры укрепления или поиска идентичности (термин, связанный напрямую с “индивидом” и “индивидуальностью”). Э. Юнгер отмечает, что “уход в Лес состоит в более тесной связи со свободой, чем любой процесс вооружения; в нем заключена изначальная воля к сопротивлению. Поэтому только добровольцы пригодны для него. <…> Тем самым они приводят доказательство своей свободы и подлинности собственного существования” (Юнгер 2020: 116). Однако этот поиск себя, говорит М. Стратерн, – ничто иное как “западная игра”, возникающая и у Э. Юнгера: «западное воображение играет с идеей, что матери делают детей так же, как рабочий делает продукт, и что работа – это их ценность… Люди “находят себя”» (Strathern 1988: 315). Ищут ли себя охотники Среднего Приобъя, скрываясь в лесной избушке?
Потерянность и поиск идентичности: проблема индивида в лесу
В своей книге о “лесе” как философском метапонятии, категории европейской культуры и одновременно как о реально существующем ландшафте В. Бибихин замечает, что в лесу есть “разница между страшным, чужим заворожением леса и своим, спасительным. <…> В темном лесу можно только заблудиться и утонуть, но как, есть выбор: между потеряться и потеряться (курсив мой. – Л.Т.)” (Бибихин 2011: 264). Применяя этот философский ход к этнографическим наблюдениям, я задаю вопрос: теряются ли люди в лесу как “индивиды” или как “дивиды”?
С одной стороны, в беседах за чашкой чая в избушке мои собеседники применяли такие речевые обороты, как “я вою в городе, потому что не чувствую себя собой”, “здесь я себе принадлежу, и по времени тоже”, “здесь я себе хозяин” (ПМА 2017–2022; ПМА 2023–2024), увязывая на уровне языка самость и ощущение границ личности как индивида. Возвращаясь к меткому наблюдению М. Стратерн относительно того, что люди “находят себя” (Strathern 1988), я делаю предположение: в лесу все же теряются индивиды, но лишь для того, чтобы найти себя в новой социальной реальности, в которой все разделяемо (shared), но не разделено (not divided). В. Бибихин обращается не к реальному опыту конкретных жителей леса, охотников, рыбаков, а к экзистенциальному опыту читателя, подсказывающему, что за границами индивидуальности есть другая логика, и, возможно, это именно логика “дивидов” на перекрестье сложных отношений: “как раз там, где, нам кажется, мы отрезаны от жизни, оставлены, одиноки, предоставлены самим себе, ищем и не можем найти, и тяготимся собой и хотим конца себе – тогда и может быть только тогда мы полностью принадлежим жизни (курсив мой. – Л.Т.)” (Бибихин 2011: 364–365).
С другой стороны, на уровне действий, а не слов, в моем поле заметен сознательный отказ мужчин от комфорта центрального отопления, электричества и магазинов, обозначаемый информантами как “бегство” от цивилизации, от семейных обязательств, от женщин. Эту логику описывает М. Стратерн, отмечая на основе меланезийского материала “мужские амбиции идентифицироваться с нечеловеческим миром и быть возрожденным через его неограниченные, маскулинные силы” (Strathern 1988: 111). Слова “бегство” и “убежище” (прибежище) – однокоренные. Заказники, граничащие с охотничьими угодьями, бюрократически обозначают территории, которые являются убежищами для зверей, и территории, которые могут являться убежищами для людей. Но ищут ли охотники и рыбаки в диком необжитом ландшафте убежище? И делает ли их промысел в некотором смысле “беженцами” (refugees)? Соблазн поместить избушки в концептуальную рамку возрожденной дикости или нового “одичания” (re-wildening [Tsing 2015]), в которой они предстают “остовами” посреди руин советских узкоколеек и поселков, – очень велик. Однако эта “возрождающаяся” дикость является не только “третьей природой” на руинах капиталистических и социалистических строек, но предстает как “убежище” (refuge [Haraway 2015]) для тех, кто в XXI в. упорно продолжает жить и промышлять в тайге (см.: Rakhmanova 2024) и видеть в этом бегстве от цивилизации благо и особую форму жизни, а не вынужденное решение. В этом есть скорее “растерянная ностальгия по лесу, безнадежная мечта всё-таки еще как-то скрыться в нем” (Бибихин 2011: 56).
Что я могу взять из этого необычного “диалога” антропологов и философа? Во-первых, именно потерянность, дезориентация, изоляция – условие обретения границ (но границ чего, – личности, индивидуальности или других форм социальности – оставим это под вопросом). Во-вторых, явный мотив бегства (в леса), изоляции (от рутины повседневности деревенской жизни, от женщин) пронизывает все мои интервью и беседы о жизни на избушках (как со стороны мужчин, так и со стороны женщин). Тот же мотив выделяется В. Бибихиным, А. Цин и М. Стратерн через следующие концепты: лес как неметрическое пространство1; лес и пространство за пределами населенных пунктов как немасштабируемое, не поддающееся капиталистической логике (Tsing 2012); и разрыв между политическим и “домашним” пространствами (см.: Strathern 1988: 69, 75–76, 92), который лишь указывает на то, что именно “отсутствие” или “исключение” второго элемента (напр., женского присутствия) не дает возможности нам увидеть социальное целое в его полноте.
В моем исследовании этот ход, предлагающий “думать c помощью леса”, позволяет понять, как в лесу и на реке люди поддерживают социальность в динамическом балансе (Bateson 1958: 190–191), восполняя, замещая отсутствующие социальные роли. Однако на онтологическом уровне я предлагаю вслед за Э. Коном и Т. Диконом увидеть практики не просто восполнения и замещения, но и “конститутивного отсутствия” (constitutive absence) (Deacon 2012: 3; Кон 2018: 75), великолепным примером которого являются неприсутствующие женщины. На другом же уровне этот подход позволяет ухватить этнографически то, чего не хватает, то, что отсутствует, но о чем мечтают люди, а также прорехи, существующие в их мире, которые со стороны не видны. Этим нехваткам, отсутствию, прорехам и ревнивой бережливости охотников и рыбаков посвящены мои этнографические примеры, которые дополнят мой первый сюжет с ночевкой на избушке.
Отсутствующие женщины
В разговоре с рыбаком (пенсионер, женат, работает в рыболовецкой бригаде) выяснилось, что говорить напрямую об избушке, доме – как “чисто мужском” пространстве, довольно трудно, это может вызывать смущение в разговоре с женщиной. Однако шутки, иносказания, описание окружающего избушку и дом в селе подсобного хозяйства неизбежно подводят к гендерному различению:
– …Да, есть огород.
– И там семья помогает?
– Неееет, это чисто мое [усмехается].
– То есть там супруга не помогает? [в ответ смеется в голос]. А, то есть это “мужской огород”?
– Дааа-а! [звеняще смеется].
– А в К. (райцентр) – там…
– А там – “женский” огород [мы с собеседником вместе смеемся] <…>
– То есть это ваше мужское пространство, вы туда супругу не возите?
– Нет [громкий смех].
– А сажаете что там?
– Картошка, огурцы, помидоры, виктория. Ну, укропчик, лучок, это естественно. Зелень всякую.
– А потом вы этот урожай оставляете там или в семью увозите?
– Увожу-увожу. В Н… (нас. пункт “Н”. – Л.Р.). Там же как… это… то, что я в М. (на избушке “М”. – Л.Р.) сажу – это… нам с женой. А то, что там садится – там детям уезжает. [после паузы, меняясь в лице] После таких вопросов я, пожалуй, домой к жене поеду! Эвон как Вы хотите все понять, какие вопросы-то Вы задаете! (ПМА 2024: м. 59, пенсионер, штатный рыбак в бригаде.)
Предлагая читателю этот фрагмент диалога, я считаю необходимым сделать оговорку: здесь именно исследовательница спонтанно предлагает “определение” огорода в качестве “мужского”. Далее по аналогии, ведя рассказ, собеседник называет второй огород “женским”. С одной стороны, очевидно, что эти прилагательные “придуманы” не рыбаком и не употребляются им в повседневности. С другой стороны, предложенное определение втягивает нас обоих в игру, снимая напряжение первых минут интервью, проходившего в избушке, и помещая нас в общее, разделяемое семиотическое пространство подшучивания над условностью гендерных границ; и в этом смысле оно видится мне этнографически и эмоционально продуктивным.
Потом я не раз сталкивалась с лейтмотивом возвращения из уединения – обратно в поселок (дом не назывался “домом”). Не исключено, что запрет на женское присутствие в избушке/на заимке нужен именно для того, чтобы было к кому возвращаться. Это и достигается за счет создания неоднородного социального пространства, которое окрашено гендером по-разному в разных точках. Разделение на “женский” и “мужской” огород отсылает нас к “женским” и “мужским” животным в Лесото – однако в этом этнографическом примере сферы влияния и типы животных связаны с разными источниками доходов: карманные деньги жены или инвестиция в домохозяйство сегодня и достойная старость мужчины в будущем (Ferguson 1985: 656–657). В случае избушек Среднего Приобья территориальное разделение (огород в селе и рядом с избушкой) также помогает перераспределению ресурсов не только внутри пары, но и между поколениями. Так, средства, заработанные на охоте, – от продажи шкур и мяса, сдачи металлолома с разобранных узкоколеек – могут идти на покупку квартиры в городе для престарелой матери, хотя это делается не столько для того, чтобы упростить ее быт, сколько для разделения свекрови и невестки. Таким образом, мотив уединения и разделения женского и мужского сочетается с мотивом трансляции навыков и охотничьих/рыбацких традиций в межпоколенческой перспективе. В ходе обучения учеников мастерству охоты или рыбалки изоляция в мужском коллективе на заимке служит совсем другим целям. Я наивно полагала, что благоустройство избушки направлено на бо́льшую автономизацию мужчин, на создание пространства, которое в случае необходимости может стать их домом на несколько месяцев или даже на год. В долгосрочной перспективе для 30-летнего охотника, планирующего проводить время в избушке на пенсии, это, может быть, действительно так. Но иная картина возникает, если посмотреть на краткосрочные перспективы жизни на избушке.
Страсть к общению и незваные гости
Не всегда “женское отсутствие” сокращает срок пребывания мужчины на избушке. Рыбаки в зимний период приезжают на рыбалку на 3-4 ночи, снабженные контейнерами с готовой едой, которую разогревают на печке. Закончившиеся запасы зачастую не являются причиной отъезда мужчины домой, но во многих случаях этот резон служит самооправданием для рыбака, изнывающего от одиночества без напарника или жены:
– Я же 35 лет в школе проработал! И преподавал, и носы, и попы, блин, подтирал, и со всеми общался. И вот теперь я не могу без общения! Мне ж общение надо, чисто посидеть, поговорить.
– А дома нет общения? В селе же даже проще ходить в гости?
– Нет, какое там! Мне здесь нужно общение. Вот к вам заехал, вот ребята в Н. остановили, посидели, медовуху попили, пообщались. Но и тайга нравится, мне снегоход нужен, мне лодка нужна, я без них не могу (ПМА 2024: м. 63 лет, пенсионер, опытный рыбак, бывший преподаватель).
Сочетание интенсивного общения в компании и бегства от суеты села – недостижимый идеал избушек: изоляция нагоняет тоску, в которой единственный собеседник – телевизор, изредка “заводимый” от генератора; чрезмерная же компанейскость ведет к вторжениям в уют и порядок рыбацких избушек2. Как ни странно, попытка жены навести красоту в избушке мужа может также восприниматься как “вторжение” и сравнивается со взломом избушки со стороны непрошенных гостей:
– А ваша жена тут бывала?
– Ну… бывала… [пауза] один раз. Так ей понравилось, что она второй раз напросилась поехать со мной. Гляжу: взяла кисточки-х***точки и разрисовала мне тут, ***, все шкафчики, окна, скамейки. Так я с тех пор как-то не стремлюсь. Хотя красиво, блин, конечно, но… (Там же).
М. Стратерн спрашивает: “Не является ли домашняя социальность все еще неполной/умаленной (diminished) социальностью?” (Strathern 1988: 88). Уют и порядок в избушке понимаются специфически: лишний хлеб или крупы могут сгрызть мыши, лишний текстиль может покрыться плесенью при излишней влажности. Потому все дополнительные вещи, которые в деревне или городской квартире призваны создавать уют, воспринимаются на избушке как источник беспорядка, который приносят либо женщины, либо чужаки.
Избушки, находящиеся на берегу реки, оказываются более уязвимыми для посещения нежданными гостями, тогда как в таежные избушки редко кто забредает. Да и, учитывая, что в тайге может произойти всякое (поломки, несчастные случаи, травмы), такие избушки не запирают на замок. Но гости могут и не знать простых правил. Например, на одной избушке гости забыли открыть дверь зимой, и изморозь, оттаявшая при растопленной печке, создала высокую влажность – появилась плесень. Запах затхлости – первое, что мы почувствовали, когда вошли в дом. Но, несмотря на такие казусы, хозяева таежных избушек верны идее помогать замерзшим или раненым. Об избушках рыбаков говорят: “Это у них не доверяют никому, закрывают на засов. Правда, у них там действительно проходной двор. У нас-то тут тихо, как прежде!” (ПМА 2024: м. 63 лет, пенсионер, охотник, раньше был профессиональным рыбаком).
Однако и запоры порой не помогают: в стене одной из рыбацких избушек я увидела интересное устройство – металлический стержень, пробитый сквозь бревенчатую стену, на внутреннем его конце была закручена гайка, а на наружном – крепление для навесного замка (см. Рис. 4). “Это штифт, чтобы избушку не вскрывали. А то ходят и ходят. Однажды приезжаю, а там голый мужик ходит. Жара нестерпимая, он сушится. А двое на улице сидят, костер жгут. Я говорю: а чего не с ним? Зачем вы лишние дрова сжигаете мои? Так он там сушится (голый), а мы тут пока” (ПМА 2023: м. 63 лет, рыбак, хозяин речной избушки).
Рис. 4. “Устройство от взлома” – металлический стержень, закрепленный гайкой. Октябрь 2023 г. Фото автора
Рыбаки также жаловались на то, что прибрежные избушки слишком заметны с реки людям на лодках и снегоходах: кто-то приходит к избушке от нужды, кто-то – из любопытства. Несколько лет назад река “гудела” от новостей: то тут, то там воровали лодочные моторы из тайников! В последние годы (2022–2024) гости на избушках не чурались подворовывать дрова для костра (тальник на островах не пригоден для обогрева):
Но я уже знаки развесил везде – тут, там. “Не входить, не въезжать”. Постепенно меньше и меньше приезжают, правда, с песков рыбаки приезжали – на лодке причаливали и у меня дрова воровали. Или вот те, в палатке: палатка далеко стояла, а за дровами сюда ходили, таскали далеко. Я к тем сплавал на пески, говорю: “Вы чё делаете?” И погрозил, что нашпигую дрова [патронами], и им достанется. Так ты прикинь, приезжаю в следующий раз на избушку, а из поленницы дрова снизу вынуты, как в мозаике, а сверху они дрова не взяли: знали, что нижние я точно не трону! (ПМА 2023: м. рыбак, хозяин речной избушки)
В той же степени, в которой рачительный хозяин печется о сохранности своего “основного” дома в деревне, он ревностно охраняет границы своего “удела” в тайге и на реке: для кого-то граница собственности заканчивается за порогом сеней, для кого-то и срубленная на территории возле навеса рябинка является грубым посягательством на неприкосновенность земли вокруг избушки. Ирония заключается в том, что хозяин, владеющий несколькими избушками (основной и “переходны́ми” – для временного обогрева или редких ночевок), находится в постоянном беспокойстве и о том, как идет жизнь в деревне: помимо ухода за скотиной, нужно еще “сторожить” супругу. Поэтому вопрос неприкосновенности домохозяйства связан одновременно с беспокойством о воровстве (вещей, дров, территории) и об измене. Этнографически можно увидеть, как ревность буквально вырастает из представлений местных жителей о “месте” женщины и мужчины.
В каком-то смысле быть верной – значит “знать свое место” внутри домохозяйства. Ниже я покажу (на своем этнографическом материале 2010–2020-х годов), что поведение, обозначаемое как “не совать свой нос” на избушку, является ожидаемым в отношении жен. Все зависит от культурного контекста. Например, в риторике традиционности у эвенков в 1990-е годы “место” женщины скорее в чуме, нежели в поселке (Ssorin-Chaikov 2003: 171).
Баня как псарня: истоки ревности
Приезжая на избушки, я постоянно отмечала, что многие их владельцы не стремятся создавать комфорт: избушка должна быть всегда “немного не обжита”. Так, после смерти охотника один из его учеников, не родной сын, “унаследовал” заимку и продолжал использовать ее для охоты. Однако, к моему удивлению, баня, срубленная учителем, была в ужасном состоянии: у печки лежал разорванный матрас, доски на полу прогнили. Оказывается, баня использовалась молодыми охотниками как помещение для ночевки собак, хотя стены, полки́3, печь были в великолепном состоянии: только пыль смести – и можно париться. На вопрос, почему баня превращена в псарню, новый хозяин ответил, что они не моются на избушках и баня им ни к чему: снегоходы сейчас более мощные и быстрые, и для охотника привычное дело проработать целый день в тайге, а ночевать приехать в поселок, там и помыться, и постираться.
Когда я не поверила, что они вообще не ночуют в избушке, мой собеседник признал, что дней пять они спокойно не моются, а в мужской компании благоухания от них и не ожидают. Наш разговор так и остался бы пустым обсуждением норм гигиены, если бы мой проводник не выдержал и не воскликнул бы, обращаясь ко мне и указывая на молодого охотника:
П.о.: Да жен они ездят проверять! Больше пяти дней нельзя быть в отъезде, измен боятся.
М.о.: Да что ты ерунду говоришь! Ездим просто постираться, помыться.
П.о.: Да ладно, ты мне в уши-то не заливай! Помню я, как вы все молодые тут выли, когда мы вас обучали и держали тут неделями безвыездно. Вы-то все переживали, что девчонки вас бросят!
Здесь видна параллель между необходимостью периодически ездить “проверять”, с одной стороны, избушку и ее сохранность, а с другой – жену, которая предоставлена сама себе в селе, полном соблазнов.
Жизнь с «отсылкой к критически “отсутствующему” полу» (Strathern 1988: 121) проявляется в избушечной повседневности через неустроенность, но также и через ревность молодых охотников, в конечном счете приведшую к трансформации бани. Ревность создает необходимое напряжение и связь между частями “распределенной” социальности (Gell 2006).
Мои информантки отмечали разрушительное воздействие длительных отлучек мужчин на избушку в сезон рыбалки или охоты и сопоставляли их с вахтой. Это любопытно, поскольку охоту и рыбалку в этом случае можно понимать как вариацию современного отходничества: “отходничество сначала рушит семью, а потом вынуждает и женщину уезжать на заработки вполне в согласии с тем, как это происходило в конце 19 – начале 20 веков и как это описывалось авторами того времени” (см.: Казаринов 1926; цит. по: Плюснин и др. 2013: 143). В контексте сельских домохозяйств Среднего Приобья это редчайший сценарий: отъезд “на заработки” проявляется иногда лишь в обосновании жизни жены в райцентре, когда она идет на повышение в бюджетной сфере или сфере управления, зарабатывая средства на семью, но оставаясь в том же микрорегионе, что и работающий в поселке муж.
Однако полной гендерной подмены традиционных “ролей” не происходит, подобно любопытным ситуациям в дореволюционной России, когда женщины не только вели хозяйство, но и ходили в кабаки “заместо” мужчин или же начинали совершать исключительно мужские правонарушения, например, “похищение лесного материала” (Александров 2012: 339–342; цит. по Плюснин и др. 2013: 20). Итак, напряжение между мужским и женским на избушке и в поселке сохраняется благодаря невозможности полной замены мужского присутствия в деревне и женского влияния на избушке. Это этнографически подтверждает идею о том, что в данном случае работает логика распределенной личности (distributed personhood), в рамках которой происходит обмен частями, но не замещение (Gell 2006).
Время заимки
Преодолевающие вторжения чужаков, воровство, разрушения избушек ураганами, пожарами и наводнениями владельцы постепенно начинают регистрировать строения, чтобы легализовать свои промысловые угодья с позиций земельного права. В этом процессе оформления земли проявляется также восприятие государства как “незваного гостя” (Ssorin-Chaikov 2003; Ссорин-Чайков 2012), который не срывает засовы, проникая вовнутрь, чтобы обсушиться, но по-своему ставит под вопрос избушечную автономию.
Неожиданным образом вопрос о регистрации строений и земли связывает “социальную жизнь государства” далеко от поселковых контор (Ssorin-Chaikov 2003; Ссорин-Чайков 2012) с темой межпоколенческих отношений, наследования и, что важно, темой отцовства. Так, один мой собеседник 30 лет, рыбак, охотник и сын фермера, обосновывал свое решение легализовать землевладение тем, что у него родился сын: это стало знаковым событием для него, в том числе как хозяина избушки. Но, когда он посмотрел на дату в документе, выяснилось, что земля была зарегистрирована в 2019, а его сын родился в 2022 г. Тогда, не смутившись, он мгновенно реинтерпретировал свою историю: “О! ну, значит, как чувствовал, что родится!” Тема родства и гендерной маркированности избушки напрямую связана с темпоральной логикой владения ею. Далее в этой статье меня волнуют три ключевые темы: наследование и вопросы кровного и символического родства между хозяином заимки и наследником/учеником; отцовство и наставничество (ученики охотников и рыбаков); восприятие категорий молодости и старости сквозь призму жизни на избушках. Все они, как я покажу, связаны с женским (не)присутствием.
Избушка в наследство: наставлять и “отваживать”
По негласному закону после смерти хозяина сын, племянник, зять умершего продолжают пользоваться избушкой. Важно не формальное право собственности, а возможность использовать избушку и следить за тем, чтобы она была в хорошем (жилом) состоянии. Так, после развода родителей сыновья вместе с отцом поддерживают жизнь на избушке. Когда отец и сын строят избушки отдельно друг от друга, после смерти отца избушка может оказаться заброшенной, либо войти в сеть избушек сына, либо перейти по завещанию к трудолюбивому зятю. Зятю могут быть завещаны не только избушка и инструменты, но и право на угодья или акваторию и даже положение в сообществе. В этом случае промысел сближает мужа и жену, поскольку избушка – приданое невесты.
В ситуации, когда избушку изначально строили два друга, после смерти одного из них у напарника больше прав на нее, чем у наследника, – если только последний при жизни отца не участвовал в совместной охоте/рыбалке и не был посвящен в нюансы быта на заимке. В этом случае сын продолжает охотиться с другом отца, либо они используют избушку по очереди, договариваясь заранее. При такой “посменной” эксплуатации избушки возникают конфликты с гостями-родственниками, нарушающими уклад заимки. Их нельзя выгнать как чужаков, но они “все делают не так” и могут навредить, сломать, разрушить или ухудшить отношения с хозяевами соседских избушек, спровоцировав драку.
Любопытно, что иногда охотники обучали на избушках мальчишек из других семей, а родных сыновей при этом “отваживали” от тайги:
Л.Р.: Как же вы их отваживали?
П.о.: Да как… нагружал непосильной работой: мы прорубались после урагана по тайге, тут же дорогу постоянно заваливает, ее надо содержать! Заставлял их ходить с тяжестями по многу километров, продираться сквозь завалы с бензопилой… Чтобы они почувствовали, что это не лафа, а тяжелейший труд!
Л.Р.: Ну и как, получилось?
П.о.: Вроде да, оба “грамотные”, женились, в городе живут, от леса совсем отвыкли (ПМА 2024: м. 64 лет, охотник, в прошлом рыбак).
Чтобы жить на избушке, нужно учиться переносить тяготы таежной жизни. “Отваживание” сыновей от тайги совершалось с оглядкой на их будущую жизнь, семьи, детей, которым будет лучше в городе. Передача отцовского опыта, с одной стороны, может стать предметом гордости, с другой – превратить сыновей в одиночек, которые не смогут ни найти свое место во “внешнем” для избушек мире, ни встретить девушку, ни создать семью, ни стать частью дуальных, дополняющих друг друга отношений (Bateson 1958).
Интересно также, что один из моих собеседников, рассказы которого мне довелось слышать еще в 2017 г., оставил после смерти в качестве наследия не только учеников, дома и технику в деревне, избушку и часовню на лесной поляне, но и тетрадь стихов. Когда мы с его другом попытались выяснить, сохранилась ли она, оказалось, что родная дочь охотника забрала тетрадь в город и продолжила писать в ней уже свои стихи. Такой пример является еще одним неординарным подтверждением заимки как “распределенной личности” (Gell 2006), простирающей свое влияние через вдохновленные тайгой стихи за пределы сельской жизни, что проявляется в “городском” творчестве дочери охотника.
Однако не всегда формы социальности, возникающие вокруг леса и избушек, противоречат жизни в паре. Мой собеседник, охотник, с радостью отмечал, что его ученики, которые сильно пили или совершали попытки самоубийства, вернулись к трезвой жизни, встретив девушку. Это спасло их от саморазрушения4: налаживание личной жизни позволило с удвоенной силой заниматься охотой и рыбалкой. Любовь может подпитывать тягу к тайге и наоборот. Как отметил один из информантов, жизнь на избушке с женщиной может быть “золотым временем” в жизни пары: “поначалу мы вместе ходили по тайге, вместе ловушки проверяли. Она идет налегке, рюкзачок, термос… Ей нравилось сюда приезжать!”.
Многие охотники, рассказывая о посещении женой необустроенной избушки с ее земляным полом, необходимостью дежурить ночью у “буржуйки”, отмечают, что присутствие женщины никак не “помогает” промыслу, не делает его более эффективным (ПМА 2024), в отличие, например, от “гаражных производств”, где жены и сыновья помогают с пошивом изделий или доставкой товаров (Селеев, Павлов 2012: 73). И хотя промысловые избушки существуют на реке и в тайге прежде всего для организации промысла, а не ради отдыха или тусовок друзей вдали от семьи, рассказы об их строительстве постоянно указывают на неэкономическую ценность существования избушек.
Однако совместный труд мужа и жены, как отмечают охотники, таит в себе и опасность: узнав всю подноготную охотничьего промысла, ориентируясь на местности, ставшей почти родной, женщина в случае развода (по мнению мужчин старшего поколения) может обернуть эти знания и опыт против мужчины. Разрыв отношений ведет к переделу имущества в деревне, но не в тайге на заимке. В избушке и после развода сохраняются мужские и женские черты, сохраняется дивидуальность отношений: «производство гендера (gendering), как и сам обмен, ощутимо присутствует как в виде однополой идентичности (мужской или женской), так и в ее сочетании или “отсутствии”, представленном, например, в кросс-половом андрогине» (Strathern 1988: 184).
Показывая в телефоне фотографии с охоты, мой собеседник наткнулся на кадры с православным храмом: “Это я ездил, в храм ходил. Мне посоветовали сходить. И помогло! Я ведь четыре года, как развелся с ней, никого добыть не мог. Охота не шла. А тут я вот вернулся, и сразу лося добыл!” Мой собеседник сказал с дрожью в голосе, что хотел совсем забросить охоту, да и по возрасту, вроде бы, пора – поскольку не шла удача, он расценивал это как знак приближения старости. Эта ситуация показывает, что распад пары не отнимает у мужчины его “права” на избушку или угодья, однако лишает охотничьей удачи (см. о понятии hunters luck: Hamayon 2012, а также о неудачах рыбака: Rakhmanova 2023).
Женское присутствие и молодость под вопросом
Темпоральности в жизни хозяев избушек оказались неожиданным образом связаны с восприятием и оценкой маскулинности охотников/рыбаков и с вопросом о том, “угасает” ли она с возрастом. Жена рыбака, работник сферы торговли на пенсии, заметила: «Это пожилые надолго заезжают в тайгу, им нужны избушки! У них дыхалки, ловкости, сил не хватает быстро “добыть” зверя. А молодые – на дроне полетали, лосей засекли, собрались, из дома выехали, бах-бах, “нащелкали” и уже, гляди, – домой привезли. И всё! И они дома, с женами, семьями».
Это подтверждает и молодой охотник, отказавшийся от бани в лесу, чтобы не было соблазна долго быть вдали от жены. Однако быстрота, мобильность, новые мощные моторы, по мнению женщин старшего поколения, заставших технологии охоты 1960–1980-х годов, – это не способ преодоления старения и бессилия, но, напротив, их причина:
– Он у нас первый в деревне “Буран” купил, очень гордился. И тут же заболел!
– Почему?
– Ну как, воспалилось у него там все: постоянное переохлаждение, сначала буришь лед – весь мокрый, потом едешь домой на скорости – продувает насквозь. Он заболел, разуверился в себе, стал вести сидячий образ жизни. А раньше мужчины до глубокой старости ходили на лыжах в тайге и сохраняли мужское здоровье! (ПМА 2024: ж. 83 лет, жена рыбака, штатного охотника в советские годы)
Если вернуться к идее изоляции и потерянности в лесу (Бибихин 2011) как ключа к поиску “себя” (Strathern 1988), то в моем этнографическом материале этот поиск себя проявляется в необычных ситуациях. Мужчины и женщины, которых “кормили” тайга и река “раньше”, в советский период, видят в уходе в лес испытание, которое одновременно и подчеркивает, и разрушает мастерство/мужественность мужчин. Так, постоянные отъезды на избушку на лыжах (“по старинке”) способны обеспечить мужчине долголетие, но они же, если используется новая техника, могут приблизить старение и даже смерть.
Заключение: лесная социальность как пространство проявления дивида
Каждый этнографический нюанс, отмеченный мной, – начиная с трудностей изучения избушек и отличия последних от заимок, заканчивая ревностью, болезнями и колдовством, – призван проиллюстрировать мой тезис: не только исследователь, но и мои собеседники “мыслят” и “воображают” свою жизнь с помощью избушки, которая является и пространством размышления, и инструментом, и языком. Мыслить “с помощью избушки” – совершенно не то же самое, что разговаривать с избушкой и буквально обращаться к ней (к домовому, к медведю-хранителю), отпирая замок после долгого отсутствия (Tutorskiy 2023: 891). Рассматривая избушку через метафору “китайского сервиза”, где избушка является чайником для заваривания, одним из многочисленных элементов целой заимки, я использую идею А. Джелла о распределенной личности и распределенных объектах, в которой для меня особенно ценным и новаторским видится возможность плотно вписать социальность в пространство, а не только в отношения с материальными объектами.
Распределение А. Джелла важно для меня, поскольку позволяет, во-первых, в пространственном смысле этнографически показать уникальность архитектуры избушек и заимок на берегах Оби и в тайге в их тесной сетевой связи с селом и городом без, однако, противопоставления последним. Во-вторых, эта оптика дает возможность критически посмотреть на женские и мужские роли (характерное поведение, обязанности) в повседневной жизни избушек и села. Если М. Стратерн, предлагая понятие “дивид”, объясняет его отчасти через андрогинность, то А. Джелл находит не только субстанциональное, но и пространственное объяснение сочетанию феминного и маскулинного, не забывая также об их относительности и постоянном чередовании
В-третьих, приведенные мной этнографические примеры подчеркивают власть невидимого, “конститутивное отсутствие” женского присутствия (Кон 2018; Deacon 2012), которое создает гигантское социальное напряжение и является основой отношений в паре. “Парности бытия” противостоит желаемая андрогинность “я всё сам, один”, характерная для жизни на заимке. В этом напряжении, присутствующем в качестве горизонта, определяющего социальные действия, проступает “дивид” поверх двух реальностей. Первая реальность – семиотическая (Кон 2018): в ней самости дополняют друг друга; собаки, ружья, жены, мужья сливаются для воплощения интенций, а отсутствие имеет определяющее значение. Вторая реальность – пространственно маркирована (Gell 2006), и в ней именно удаленность избушек, долгая дорога, время, бурелом, метель играют огромную роль в таинственной динамике отношений: жены ревнуют мужей к их длительному отсутствию на заимке, мечтают о совместной охоте, обрекают на неудачу своего партнера или осознанно выбирают путь одиночества.
В этой статье я рассмотрела пространственную, гендерную и промысловую логики, окружающие жизнь речных/таежных избушек, удаленных от “цивилизации”, от городских и, что наиболее важно, сельских форм жизни. В результате становится видна субъектность людей в ее гендерном распределении. В моих записях эта оптика представляется мне ярко и выпукло: я “улавливаю” ее как на уровне практик, так и на уровне речи. Эти отношения для моих информантов расположены “между” условно проведенными границами индивидов и “впечатаны” как в биографические нарративы каждого отдельного собеседника, так и в ландшафт избушечного хозяйства. В этом смысле постсоветские избушки – уникальный и очень благодарный объект изучения для антрополога. Избушка, в которой не живут постоянно, в отличие от заимки, проявляет себя в напряжении, создаваемом возможностью “возвращения” мужчины из тайги или с реки в основное домохозяйство, где его зачастую ждет женщина, хозяйка. Таким образом, избушка как этнографический феномен – это и “место”, и особое состояние “лесной/речной социальности”, подчеркивающей дивидуальность всех, кто соприкасается с этой жизнью и определяемыми ею практиками.
Источники и материалы
ПМА 2017–2022 – Полевые материалы автора. 2017–2022 гг. Среднее Приобье; населенные пункты Александровского, Арабельского, Кривошеинского, Каргасокского районов.
ПМА 2023–2024 – Полевые материалы автора. 2023–2024 гг. Северное Приобье. Поселки и деревни Кривошеинского района.
1 “Неужели есть другая геометрия, и лес вытолкнул из метрического пространства только для того, чтобы подтолкнуть нас наконец понять геометрию?” (Бибихин 2011: 60).
2 Иначе обстоят дела с гостями в охотничьих избушках. Рыбацкие избушки стоят на берегу реки как единой транспортной артерии, поэтому по дороге домой рыбак проезжает мимо избушек своих друзей и конкурентов. В тайге избушки находятся на негласно отведенной территории угодий, где само пересечение границ участков может быть воспринято далеко не как гостевание, а как провокация.
3 Полóк – полка-лавка в банной парилке для сидения или лежания.
4 Вновь здесь звучит отсылка к критике М. Стратерн идеи о том, что «люди “находят себя”», однако этот рефрен проявляется в словах информантов, а не на уровне антропологической интерпретации.
Об авторах
Лидия Яковлевна Рахманова
Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” в Санкт-Петербурге
Автор, ответственный за переписку.
Email: muza-spb@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-7475-3609
к. социол. н., старший преподаватель
Россия, Санкт-ПетербургСписок литературы
- Абашин С. И здесь, и там: транснациональные аспекты миграции из Центральной Азии в Россию // Восток на Востоке, в России и на Западе: трансграничные миграции и диаспоры / Отв. ред. С. Панарин. СПб.: Нестор-История, 2016. С. 159–176.
- Александров Н.М. Влияние отхожих промыслов на социально-демографическое развитие пореформенной деревни (по материалам Верхнего Поволжья) // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2012. № 2. С. 333–343.
- Бибихин В.В. Лес. СПб.: Наука, 2011.
- Казаринов Л. Отхожие промыслы Чухломского уезда. Чухлома, 1926.
- Кон Э. Как мыслят леса: к антропологии по ту сторону человека. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018.
- Плюснин Ю.М., Заусаева Я.Д., Жидкевич Н.Н., Позаненко А.А. Отходники. М.: Новый хронограф, 2013.
- Рахманова Л.Я. Рыбаки и контролирующие инстанции на Оби: правоприменение в тени локальных правил игры // Этнографическое обозрение. 2019. № 4. С. 45–60.
- Селеев С.С., Павлов А.Б. Гаражники. М.: Страна Оз, 2016.
- Ссорин-Чайков Н.В. Гоббс в Сибири: социальная жизнь государства // Социология власти. 2012. № 1. С. 155–187.
- Юнгер Э. Уход в Лес. М.: Ад Маргинем Пресс, 2020.
- Bateson G. Naven: A Survey of the Problems Suggested by a Composite Picture of a Culture of a New Guinea Tribe Drawn from Three Points of View. Stanford: Stanford University Press, 1958.
- Deacon T.W. Incomplete Nature: How Mind Emerged from Matter. N.Y.: Norton, 2012.
- Ferguson J. The Bovine Mystique: Power, Property and Livestock in Rural Lesotho // Man. New Series. 1985. No. 20 (4). P. 647–674.
- Gell A. Art and Agency: An Anthropological Theory. Oxford: Clarendon Press, 1998.
- Gell A. The Art of Anthropology: Essays and Diagrams. N.Y.: Berg, 2006.
- Gillison G.S. Images of Nature in Gimi Thought // Nature, Culture and Gender / Eds. C. MacCormack, M. Strathern. Cambridge: Cambridge University Press, 1980. P. 143–173.
- Hamayon R. The Three Duties of Good Fortune: “Luck” as a Relational Process among Hunting Peoples of the Siberian Forest in Pre-Soviet Times // Social Analysis. 2012. No. 56 (1). P. 1–18.
- Haraway D. Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin // Environmental Humanities. 2015. No. 6. P. 159–165.
- Rakhmanova L.Y. Hidden Dimensions of Clandestine Fishery: A Misfortune Topology Based on Scenarios of Failures // The Siberian World / Eds. J.P. Ziker, J. Fergusson, V. Davydov. Abingdon; N.Y.: Oxon; Routledge, 2023. P. 393–404.
- Rakhmanova L.Y. Intertwined Narratives: Nature Tourism in the Context of forced Settlers’ History in Western Siberia // Landscape Research. Special Issue. 2024. https://doi.org/10.1080/01426397.2024.2383471
- Read K. The nama Cult Recalled // Ritualized Homosexuality in Melanesia / Ed. G.H. Herdt. Berkeley: University of California Press, 1984. P. 211–247.
- Ssorin-Chaikov N.V. The Social Life of the State in Subarctic Siberia. Stanford: Stanford University Press, 2003.
- Strathern M. Gender of the Gift: Problems with Women and Problems with Society in Melanesia. Berkeley: University of California Press, 1988.
- Strathern M. Partial Connections. Savage: Rowman & Littlefield Publishers, 2004.
- Tsing A.L. On Nonscalability: The Living World is not Amenable to Precision-Nested Scales // Common Knowledge. 2012. No. 18 (3). P. 505–524.
- Tsing A.L. The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Princeton: Princeton University Press, 2015.
- Tutorskiy A.V. Bears as Pares: Some Notes on Bear Stories in Zapinejie (Arkhangelskaya oblast, Northern Part of the Russian Federation) and the Tendency to Equality in Human-Bear Relations // Bear and Human: Facets of a Multi-Layered Relationship from Past to Recent Times, with Emphasis on Northern Europe. Vol. 3 / Eds. O. Grimm et al. Belgium: Brepols Publishers, 2023. P. 887–899.
Дополнительные файлы