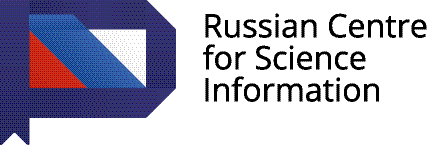Autocracy and justice in the reforming Empire
- Authors: Mamonov A.V.1
-
Affiliations:
- Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 6 (2024)
- Pages: 171-181
- Section: Articles
- URL: https://journals.rcsi.science/2949-124X/article/view/285652
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24060248
- EDN: https://elibrary.ru/RKDYGS
- ID: 285652
Cite item
Full Text
Abstract
The article is devoted to the analysis of the activities of the cassation departments of the Governing Senate and its coverage in the monograph by A.N. Vereshchagin.
Full Text
Книга А. Н. Верещагина о «кассационном Сенате», несомненно, оставит глубокий след в историографии. Она в равной мере научна, публицистична, полемична, концептуальна, тенденциозна, наконец, просто увлекательна (особенно в той части, где речь идёт об отдельных эпизодах сенатской практики). В иные времена всё это гарантировало бы если не успех, то уже точно громкий резонанс и жаркие дебаты. Но очерки вышли почти два с половиной года назад, тираж давно разошёлся, был допечатан и вновь раскуплен – своего читателя книга явно нашла и без внимания не осталась. 160-летие судебной реформы Александра II также, казалось бы, располагало к ревизии сложившихся представлений о характере и значении связанных с ней изменений. На деле же состоялся ряд рекламных презентаций, появился развёрнутый ответ задетого в тексте профессора К. П. Краковского (с. 191–194)1, и это едва ли не всё.
Наше научное сообщество, похоже, устало от дискуссий и не видит в них проку. Да и кому захочется тратить время и силы на пререкания, если привести они могут лишь к тому, что потрудившегося ещё и обругают при очередном переиздании? Ведь, к сожалению, тот же Верещагин нередко критикует оппонентов (особенно тех, кого он считает «неосоветскими») в стилистике, больше всего напоминающей выпады нелюбимого им Н. А. Троицкого. Поэтому споров ожидать, скорее всего, не приходится.
Однако для будущих исследователей пореформенного суда очерки Верещагина окажутся весьма полезны и удобны. Автор затронул в них массу сюжетов, из которых без малого все заслуживают дальнейшего изучения. Намеченных им тем хватило бы, пожалуй, на несколько поколений учёных. Увы, на сегодняшний день нет даже обстоятельных биографий ни Н. И. Стояновского или С. И. Зарудного, ни Н. В. Муравьёва и И. Г. Щегловитова, не говоря уже о фигурах, возможно, не менее крупных, но оставивших не столь обширное наследие. Поразительно, но о террористах у нас до сих пор пишут охотнее и больше, чем о сенаторах и прокурорах. На этом фоне труд Верещагина выглядит, конечно, как откровенная апология судебных учреждений и деятелей Российской империи. В кои-то веки о них сказано доброе слово (в целом вполне заслуженное). Но неудивительно, если столь страстная защита вызовет затем зеркальную реакцию обличителей.
Впрочем, в каких-то случаях Верещагин охотно следует за историографией, как дореволюционной, так и советской. Так, освещая ход разработки Уставов 1864 г., он выделяет в нём «блудовский период», «оказавшийся не слишком плодотворным» и закончившийся тем, что в конце 1861 г. «дело подготовки реформы было передано из Второго отделения [Собственной е. и. в. канцелярии] в Государственную канцелярию, то есть от графа Блудова к государственному секретарю В. П. Буткову и его ближайшему сотруднику С. И. Зарудному» (с. 36). Здесь автор, по сути, воспроизводит схему, предложенную М. Г. Коротких, по мнению которого, в октябре 1861 г. «граф Д. Н. Блудов сам предлагал передать подготовку судебной реформы из II отделения с. е. и.в. канцелярии в Государственную канцелярию, т. е. отстранить его от преобразования правосудия», что будто бы «объяснялось преобладанием в правительственных кругах настроений, несозвучных блудовским, чьё руководство судебной реформой завело её в тупик». Соответственно, совершившийся тогда «переход дела судебной реформы… явился переломным моментом в её подготовке и свидетельствовал об окончательной потере влияния курса графа Д. Н. Блудова»2. Ссылаясь на книгу Коротких, Б. В. Виленский и О. И. Чистяков утверждали, будто составление проектов нового судоустройства и судопроизводства забрали из II отделения потому, что гр. Блудов препятствовал их радикализации, из-за чего после крестьянской реформы «создавалась определённая кризисная ситуация», и надо было «как-то выйти и положения»3.
Между тем случившееся имело гораздо более простое и в то же время – прямо противоположное объяснение. Достаточно вспомнить, что осенью 1861 г. гр. Блудов покидал II отделение Собственной е. и. в. канцелярии, которым руководил более 20 лет. 6 декабря его заменил на этом посту барон М. А. Корф. Сам же граф Дмитрий Николаевич находился тогда на пике своей карьеры и авторитета в правительственных кругах, являясь с 8 января 1861 г. председателем Государственного совета и Комитета министров. Поэтому, предлагая в октябре 1861 г. сосредоточить работу по завершению судебной реформы в Государственной канцелярии, он не отказывался от руководства ею, а напротив, добивался оставления её под его контролем, теперь уже в новом ведомстве. В чём и преуспел. Бутков же в тот момент был по должности непосредственным подчинённым графа и его основным помощником, вследствие чего и возглавил комиссию, готовившую Уставы. Тем самым он рассчитывал проложить себе путь к посту министра юстиции. «Блудовский период», правда, действительно заканчивался, но вследствие потери не влияния, а здоровья: с марта 1862 г. граф часто болел, слабел, подолгу лечился за границей и 19 февраля 1864 г. скончался. Всё это время Бутков фактически действовал от его имени.
Данный эпизод лишний раз свидетельствует о том, насколько неполно и неточно освещены в научной литературе даже «переломные» моменты предыстории реформы 1864 г. Её изучение не просто далеко от завершения, но пока ещё только намечено. И проведённый Верещагиным вдумчивый детальный анализ разногласий между Н. А. Буцковским и С. И. Зарудным, касавшихся устройства и принципов деятельности кассационного суда (с. 47–68), представляется исключительно важным шагом в этом направлении. Но по мере того как автор раскрывает их позиции, нельзя не почувствовать, как не хватает столь же подробного исследования других споров, происходивших в Бутковской комиссии, и всех аспектов её деятельности. В частности, напрашивается её сравнение с Редакционными комиссиями, готовившими в 1859–1860 гг. будущие Положения 19 февраля 1861 г. Причём бросаются в глаза как общие черты и довольно схожий почерк этих интеллектуальных штабов либеральной бюрократии, так и разительные отличия, связанные и с их составом (включая и степень его корпоративного единства), и с ролью председателя, и с местом в правительственном аппарате и политической борьбе. Как ни странно, историки до сих пор практически не уделяли этому внимания4.
Подобное состояние историографии, разумеется, располагает к выдвижению самых смелых гипотез и концепций. В частности, Верещагин утверждает, что хотя «в пореформенной России самодержавие формально сохранялось, но в некоторых важных отношениях официальный абсолютизм был практически парализован» (с. 197) после того, как в 1864 г. «самодержец отказался от своего права решать судебные по своему характеру дела» и запретил обжаловать решения кассационных департаментов Сената (с. 179). По сути, автор соглашается со словами известного американского русиста профессора Дж. Дейли о том, что «после 20 ноября 1864 г. Россия перестала быть самодержавной» (с. 179). Как показано в книге, схожих взглядов придерживался и С. В. Завадский (заседавший в Сенате с января 1917 г., а летом 1918 г. ставший державным секретарём при гетмане П. П. Скоропадском). Во всяком случае, в своих эмигрантских мемуарах он «неоднократно» возвращался «к теме ограничения верховной власти независимым судом», заявляя, что в данной сфере Александр II сохранил за монархом лишь право помилования. Верещагин почему-то полагает, что из этого «видно, сколь твёрдым было соответствующее убеждение у юристов, составлявших ядро русской администрации» (с. 181).
Однако о твёрдости и особенно распространённости таких представлений проще было бы рассуждать, сравнивая мнения более или менее широкого круга лиц, принадлежавших к различным идейным течениям внутри самого судебного ведомства. Не стоило игнорировать и то, как характеризовались «права императора в области суда» и принципы Уставов 1864 г. в курсах государственного права, хорошо известных Верещагину. Теперь же у читателя непременно должно остаться впечатление, будто экзотическая точка зрения Завадского, подкреплённая авторитетом Дейли и усиленная частым повторением на разные лады, являлась общепринятой и устоявшейся. О том, что звучали и иные голоса, сказано мимоходом в связи с полемикой между М. Н. Катковым, глумившимся над «конституционными» вожделениями, которые публицист приписывал судейским чиновникам, и «Русскими ведомостями», защищавшими учреждения, созданные в 1864 г. «актом самодержавной воли, укрепляющей существующие начала государственного строя» (с. 202). Очевидно, обе позиции имели своих приверженцев, и их сосуществование отражало реальные проблемы, вызревавшие в политической системе пореформенной России. Но едва ли их масштаб и особенности можно раскрыть, акцентируя одни оценки и стушёвывая другие.
Учитывая то, что Уставы 1864 г. вводились в империи постепенно, Верещагин отмечает «странный дуализм», который образовался «в результате отказа императора Александра II от судебной власти»: где-то монарх её «лишился», где-то продолжал осуществлять, а где-то и вовсе наделял почти неограниченными полномочиями генерал-губернаторов (с. 191). Затем временное Положение 14 августа 1881 г., упорядочив нормы конца 1870-х гг., оформило особые правовые режимы «усиленной» и «чрезвычайной» охраны, при необходимости вводившиеся с санкции царя в разных местностях (с. 195). Несмотря на это, в повелениях, отданных Александром III весной 1882 г., автор видит уже «атавизм вмешательства верховной власти в независимое отправление судом его функций» (с. 191). Настаивая на том, что «на основной территории страны, где судьи были несменяемы, русский монарх утратил судебную власть», Верещагин всё же не признаёт эту ситуацию «бесповоротной» и указывает на осторожные попытки правительства её изменить (с. 201–212).
В своих рассуждениях исследователь исходит из того, что «ограничение верховной власти происходит тогда, когда в государственную систему вводится принцип разделения властей» (с. 181). Но само по себе то или иное распределение функций между различными институтами вполне возможно и при диктатуре, хоть авторитарной (как в наполеоновской Франции), хоть партийной (как в советской России). Если «разделение властей» не опирается на наличие в обществе самостоятельных и уравновешивающих друг друга политических сил, то при безусловном доминировании одной из них оно останется номинальным и в лучшем случае выразится в её самоограничении, зависящем исключительно от соображений целесообразности. Что собственно и наблюдалось в Российской империи, где царскую власть попросту некому было уравновешивать и ей приходилось «ограничиваться» самостоятельно.
Верещагин уверяет, что «ограничение власти монарха в России происходило во многом по английскому образцу, путём прецедентов конституционного значения, важнейшим из которых явилось дело Любощинского» (с. 182). Не случайно этот довольно известный эпизод изложен в книге так обстоятельно, как никогда ещё не делалось в историографии, причём автор опирается как на свидетельства наиболее осведомлённых современников и участников этого события, так и на подлинные архивные документы, ранее учёными не использовавшиеся (с. 182–186).
«Дело» же заключалось в том, что в январе 1867 г. сенатор Гражданского кассационного департамента (ГКД) Сената М. Н. Любощинский оказался среди участников петербургского губернского земского собрания, принявших резолюцию, порицавшую действия правительства (а именно – закон 21 ноября 1866 г., резко урезавший возможности предоставленного земству самообложения). Александр II, рассердившись, приказал министру юстиции уволить сенатора, пользовавшегося правом несменяемости, со службы. Как установил Верещагин, соответствующий указ «был уже составлен в министерстве и подписан императором, но ещё не напечатан» (с. 185).
Тогда сенатор обратился за помощью к министру внутренних дел П. А. Валуеву и шефу жандармов гр. П. А. Шувалову и подал царю прошение о снисхождении. В нём Марк Николаевич, разумеется, не отстаивал свои «права», а наоборот, оправдывался, ссылаясь на рассеянность из-за болезни жены и сына, на обманувшую его торопливость баллотировки (тогда как он сочувствовал изданному закону, а не его критикам), ему хотелось добиться отпуска и тщательного расследования чистоты своих намерений, причём выражалась готовность понести сугубое наказание, если бы их сочли предосудительными. Министр юстиции Д. Н. Замятнин поддержал просьбу, указав опять же не на особый статус, а на безукоризненность прежней службы сенатора и его образа мыслей5. Сентиментального и отходчивого Александра II буквально разжалобили и уговорили 21 января написать на прошении: «Так и быть. Надеюсь, что это послужит ему уроком. Указ уничтожить» (с. 185). Верещагин заключает: «Все эти секретные бумаги остались неизвестны посторонним, отчего и сложилось мнение, будто своим спасением Любощинский был всецело обязан принципу несменяемости. Мы не решаемся признать его неверным, поскольку общественное, историческое значение прецедента, его место в человеческой памяти вовсе не зависят от мотивов лиц, его создавших, и несомненным фактом является то, что никогда впоследствии судей не увольняли по высочайшему повелению» (с. 185–186).
Однако этот факт может объясняться и тем, что «инцидент Любощинского» (с. 186) послужил «уроком» не для него одного. Во всяком случае, первоначальный резонанс данного «дела» заметно отличался от его позднейших трактовок. 23 января 1867 г. служивший тогда в сенатской канцелярии А. А. Половцов записал в дневнике рассказ обер-прокурора ГКД Д.Г. фон Дервиза о том, как Марк Николаевич случайно попал на земское собрание и запутался при голосовании (просидев, когда нужно было встать). В результате «о Любощинском подписан указ, повелевавший уволить его от службы. Подписанный указ несколько дней пролежал в Министерстве юстиции, в это время Любощинский написал письмо государю (через Шувалова), и государь написал на письме, что на этот раз прощает виновного. А высочайше утверждённые 20 ноября 1864 г. Уставы говорят, что судьи несменяемы»6. Таким образом, поначалу «инцидент» вовсе не рассматривался в обществе и в самом Сенате как торжество «несменяемости», а, скорее, напротив.
Для полноты картины нужно учесть и контекст происходивших событий. С лета 1866 г. Валуев и гр. Шувалов, к которым обратился сенатор, вели борьбу с судебным ведомством, добившись к 1867 г. замены товарища министра юстиции Стояновского своим ставленником гр. К. И. Паленом. Объявляя о его назначении Замятнину, Александр II пояснил: «Мне нужно человека, который помирил бы оба министерства»7. Ожидалось, что вскоре уйдёт и Замятнин, его требовалось только подтолкнуть.
В связи с этим весьма своеобразное звучание приобретает и то, что в 1881 г. рассказывал гр. Шувалов государственному секретарю Е. А. Перетцу о своём участии в судьбе Любощинского: «Его величество, будучи рассержен, хотел уволить его от службы. Тогда я доложил, что этого сделать нельзя, так как Любощинский – сенатор Кассационного департамента, а потому пользуется правом несменяемости наравне со всеми членами новых судебных мест. Государя это чрезвычайно поразило, и он сначала не хотел мне верить. Оказалось, что в своё время вопрос о несменяемости не был в точности разъяснён его величеству. Государь предполагал, что новый закон будет ограждать судей только от произвола министра, но ничуть не ограничит собственных его прав. Когда истинное значение закона было вполне разъяснено, государь приказал оставить без последствий первоначальное его намерение об увольнении Любощинского» (с. 183–184). Вероятно, граф хотел выглядеть в глазах собеседника (некогда заседавшего в комиссии Буткова) поборником законности. Но Верещагин убедительно показал, что для «спасения» сенатора использовалась совсем иная аргументация. Тогда как скользкая тема царских прерогатив как нельзя лучше подходила для компрометации Замятнина, якобы обманувшего в своё время монарха. Возможно, именно поэтому Александр II не стал дожидаться, когда гр. Пален согласится принять ведомство, и в апреле 1867 г. назначил управляющим Министерством юстиции кн. С. Н. Урусова, который возглавлял его всего полгода.
Кстати, как известно, после инсульта, прервавшего в ноябре 1866 г. государственную деятельность Н. А. Милютина, Валуев и гр. Шувалов стремились к ревизии политики, проводившейся им в Царстве Польском. И тут опытный юрист Любощинский – католик из ополяченной белорусской шляхты – мог оказаться весьма полезным союзником. Неудивительно, что в конце всё того же 1867 г. он стал председателем комитета, готовившего преобразование судебной части в Варшавском генерал-губернаторстве. В 1872 г. его перевели в I департамент Сената, не дававший иллюзорной «несменяемости», но игравший в правительственных делах наиболее значимую роль.
Таков был, по словам самого автора книги, «важнейший» (!) из «прецедентов конституционного значения» (!!), будто бы свидетельствовавших об ограниченности самодержавной власти в России. Но действительно ли несменяемость судей ограничивала императора или хотя бы казалась современникам чем-то потенциально пригодным для этого? Пожалуй, больше и ярче всех на сей счёт написал в «Воспоминаниях о деле Веры Засулич» А. Ф. Кони. Автор упоминает их в книге лишь дважды (с. 197, 535), явно рассчитывая, что читатель и без того с ними знаком. Тем не менее рассуждения мемуариста совсем не согласуются с концепцией Верещагина.
Как известно, после скандального оправдания присяжными террористки, покушавшейся на столичного градоначальника Ф. Ф. Трепова, поведение Кони на посту председателя петербургского окружного суда вызвало жёсткую критику в консервативной печати и в правящих кругах. Через несколько дней его пригласил к себе для объяснений министр юстиции гр. Пален, ожидавший, что император в любой момент может потребовать от него подготовки указа об увольнении «несменяемого» судьи. Причём если графу такой поворот событий представлялся вероятным, то сам Кони под влиянием доходивших до него слухов не сомневался в том, что всё уже «решено в принципе». Считая это «нарушением закона, которое никому не запишется в счёт заслуг», он также отчётливо понимал, что хуже будет только для закона, а вовсе не для его нарушителей: «Указ Сенату с увольнением без прошения составил бы самую печальную и беспримерную доселе страницу в истории судебной реформы. Одним этим указом фактически и бесповоротно уничтожалась бы несменяемость. Статьи Учреждения [судебных установлений], говорящие о ней, звучали бы насмешкой». Поэтому «надо было сделать всё возможное для избежания такого указа, для устранения такого опасного, развращающего прецедента». Но делать было положительно нечего, и просить о помощи некого, как бы ни смущала «мысль о том, что беззаботный насчёт судебных уставов государь способен, действительно, подписать поднесённый трепещущим Паленом указ и тем нанести жесточайший нравственный удар в самое сердце судебного ведомства»8.
Стоит ли удивляться тому, что Кони, попав в затруднительную ситуацию, ни разу не ссылался на «важнейший» прецедент Любощинского? Не упоминал о нём и гр. Пален, хотя он настойчиво рекомендовал судье нечто весьма схожее: признать вину, подать царю добровольное прошение об отставке и рассчитывать на его доброту. Кони, сперва не желавший подавать деморализующий пример для независимых и несменяемых «череповецких и изюмских судей», по здравом размышлении признал, что увольнение председателя столичного суда без прошения обескуражит их ещё сильнее. В итоге он отправил «ничтожному министру» письмо, в котором соглашался «оставить службу лишь в том случае, когда Пален от имени государя как статс-секретарь объявит мне высочайшее повеление о том, чтобы я подал в отставку»9. Необходимость изыскивать такого рода уловки, вероятно, свидетельствовала о том, что «беззаботный» монарх, указа так и не потребовавший, был сильно ограничен принципом несменяемости… Описывая свои страдания, Кони мимоходом коснулся ещё одного «прецедента» в решении подобных дел: в марте 1868 г., через полгода после вступления на министерский пост, гр. Пален перевёл без прошения (и даже «против воли») первого председателя петербургского окружного суда Г. Н. Мотовилова на должность прокурора московской судебной палаты, просто сославшись потом на то, что «не так понял» намерения «несменяемого» чиновника10.
Кони придавал исключительное значение принципу несменяемости. Ему казалось, что это «лучшая гарантия, лучшее украшение судейского звания», и «благодаря ей легко переносится и скудное вознаграждение, и тяжкая работа судей», обретающих «доверие к своим силам в столкновениях со всякою неправдою». Иными словами, она рассматривалась как существенная и по-своему уникальная корпоративная привилегия внутри правительственного аппарата и самого судебного ведомства, резко повышавшая социальный статус и авторитет тех, кто ею обладал. Но даже Кони не видел в ней средства ограничить верховную власть. Бравируя своей независимостью и опираясь на неё, он мог дерзко пререкаться с министром (которому совсем недавно ещё подчинялся как вице-директор Департамента юстиции), но оставался абсолютно одинок и беспомощен перед решительно заявленной царской волей11. В каких-то случаях её могли даже игнорировать в судебных решениях, рассчитывая на «беспечность», уступчивость или доверие монарха к своим юристам, но ей нечего было противопоставить, кроме попыток переубеждения.
Между тем самодержцу ничто не мешало при необходимости ограничивать якобы стеснявшую его несменяемость. Это отчётливо проявилось в чрезвычайном законодательстве 1879–1880 гг., когда сначала в значительной части страны «все местные гражданские управления» были подчинены временным генерал-губернаторам, получившим полномочия, какими пользовались главнокомандующие в военное время, включая неограниченное право задержания и административной высылки, а затем «все ведомства» империи «по делам об охранении государственного порядка и общественного спокойствия» оказались в подчинении главного начальника Верховной распорядительной комиссии. Ему дозволялось «принимать вообще все меры, которые он признает необходимыми», и «определять меры взыскания за неисполнение или несоблюдение сих распоряжений и мер, а также порядок наложения этих взысканий», причём особо оговаривалось, что «принимаемые им меры должны подлежать безусловному исполнению всеми и каждым и могут быть отменены только им самим или особым повелением». Никаких изъятий ни для мировых, ни даже для коронных судей, независимых и несменяемых, при этом не делалось12.
Положение 14 августа 1881 г. предусматривало, что «главноначальствующий» в той местности, где вводился режим чрезвычайной охраны, мог «устранять от должности… чиновников всех ведомств», за исключением лиц первых трёх классов13. Тем самым данная норма распространялась и на судей (кроме сенаторов), поскольку все они числились в V или IV классе (с. 94). В 1906 г. её применение сломало карьеру председателю томского окружного суда А. В. Витте, который сперва был отстранён генерал-губернатором от должности, а потом и вовсе уволен без прошения по докладу министра юстиции14. Верещагин отмечает, что это был «исключительный» и «едва ли не единственный случай открытого нарушения принципа несменяемости» (с. 205), но почему-то не видит в нём «прецедента», отражающего не только обстановку революционных потрясений, но и отношение самодержцев к попыткам ограничить их власть в тех случаях, когда они сами того не желали. Так или иначе, но сама практика установления чрезвычайного положения по усмотрению императора наглядно демонстрировала сохранение им всей полноты суверенитета (самодержавия), в том числе и в судебной сфере.
Но почему же монархи, обычно ревниво оберегавшие свои прерогативы и способные одним указом или даже карандашной резолюцией упразднять и трансформировать государственные институты, санкционировали и сохраняли Уставы, наделявшие судей независимостью и несменяемостью? Почему даже в 1880–1890-е гг., несмотря на нападки борцов за незыблемость самодержавия, контрреформы, практически разрушившие мировой суд, почти не коснулись коронных судебных учреждений? Книга Верещагина убедительно отвечает на эти вопросы.
Прежде всего, конечно, сказывалась искренняя и сознательная приверженность как царей, так и просвещённой бюрократии (численность и доля которой в XIX в. неуклонно росла) идее законности. Так, «различие между самодержавием и деспотизмом гр. Блудов объяснял императору Николаю тем, что самодержец может по своему произволу изменять законы, но до изменения или отмены их должен им сам повиноваться». То же повторял он и Александру II15. Это, на первый взгляд, отвлечённое правило имело ключевое значение для упорядочивания и направления работы государственного аппарата.
Кроме того, не стоит забывать, что исходной точкой подготовки реформы 1864 г. являлись не некие «объективные потребности» и «последствия» чего-либо, а острое ощущение беспомощности (если не ужаса), пережитое Николаем I в конце 1840-х гг. при осознании тщетности десятилетних усилий по наведению порядка в судебном ведомстве. Тогда, находясь на пике могущества, он почти с отчаянием спрашивал гр. Блудова: «Не уж ли невозможно улучшить нашего судопроизводства?» (с. 34). Вот тут-то и проступало настоящее, а не формальное «ограничение» самодержавия. На таком фоне конструкция, созданная в середине 1860-х гг., выглядела почти чудом, и обращаться с ней стоило бережно и аккуратно. Решение же проблемы во многом зависело от радикального изменения личного состава и статуса судейской корпорации, а именно – от превращения её из наиболее приниженных и коррумпированных в одну из самых престижных, профессиональных и авторитетных. Собственно «независимость», «несменяемость» и проч. требовались как раз для этого, и они дали нужный эффект. Пренебречь ими с риском вернуться к «разбитому корыту» середины XIX в. не могло не показаться слишком опрометчивым.
Для понимания того, какие дела доходили до императора через Сенат и Государственный совет в дореформенный период, достаточно хотя бы бегло ознакомиться, например, со скандальным расследованием покушения кн. Л. В. Кочубея на своего бывшего управляющего И. Зальцмана. Оно долго тянулось, запутывалось, разваливалось, возобновлялось возмущёнными сановниками, вызвало у Александра II решимость «проявить справедливость», но дошло до него в таком виде, что всё равно кончилось, по сути, ничем16. Личное рассмотрение таких казусов отнюдь не расширяло власть царя (который критически зависел от труда докладчиков и канцелярий), но ставило его в непростое положение перед своими советниками и высшим обществом, т. е. скорее дискредитировало, чем усиливало. Наконец, именно в судебных делах, как ни в каких иных, монархи чаще всего сталкивались с тем, чего опасались едва ли не больше всего, – с угрозой оказаться объектом манипуляций собственного окружения. Особенно выпукло данная тенденция проступала в деятельности руководителей Комиссии по принятию прошений и пришедших ей на смену канцелярий (с. 188, 197–200), и не случайно их попытки «развернуться» всякий раз встречали общее сопротивление бюрократии и ни к чему не вели.
По мере усложнения системы государственного управления и всё большей институциализации монархии нагрузка, ложившаяся на императоров (как содержательная, так и сугубо делопроизводственная), постоянно и довольно значительно увеличивалась и усложнялась. Российские самодержцы с тревогой наблюдали за тем, как неумолимая логика политического процесса делала их одним из элементов правительственной машины. Пытаясь этого избежать, они всё сильнее дорожили элементами частной жизни и личного пространства.
Тем временем успех судебной реформы вызвал обвальный рост тяжб и процессов. Положения Свода законов всё глубже проникали в жизнь тех слоёв населения, которые раньше руководствовались лишь патриархальными правами и обычаями. Медленно образовывалось общее правосознание. Ценой этого являлась крайняя перегруженность судебной системы, включая и сенатские департаменты, что прекрасно показано Верещагиным (с. 53–178, 238–244, 308–315). Но если бы даже малая часть производств, завершавшихся после 1864 г. в Сенате, доходила апелляционным путём до императора, это похоронило бы самодержавие под ворохом бумаг надёжнее и быстрее, чем делегирование полномочий и большей самостоятельности высокопоставленным чиновникам.
Могла ли судебная корпорация, пользуясь таким положением, со временем стать политической силой, способной претендовать на собственную власть и диктовать условия самодержавию? Катков пугал чем-то подобным читателей, приписывая служащим Министерства юстиции конституционные амбиции (с. 201–202). В действительности же они, как пишет Верещагин, были слишком разобщены и перегружены текущими делами, что нередко дополнялось вовлечённостью в местную общественную жизнь. Какие-либо влиятельные внеправительственные центры, сплачивающие корпорацию и руководящие ею, отсутствовали. Профессиональная юридическая печать до начала XX в. влачила весьма скромное существование, испытывая недостаток подписчиков (с. 109–110). Последующий её непродолжительный взлёт во многом обеспечили кадетские издания (с. 110–111). Однако это не помогало консолидации юридического сообщества империи, а скорее углубляло его раскол на «правых» («щегловитовскую юстицию») и «кадетствующих».
Сенаторы, склонные к политической деятельности, чаще включались в борьбу правительственных группировок, нежели стремились играть собственную роль. Весьма характерно, что первоприсутствующий Уголовного кассационного департамента Сената М. Е. Ковалевский (одно из высших лиц в судейской иерархии) в 1880 г. вошёл в состав Верховной распорядительной комиссии и подчинялся её главному начальнику гр. М. Т. Лорис-Меликову. Вскоре сенатор занял видное место в его ближайшем окружении, принял активное участие в интриге против председателя Комитета министров гр. Валуева, стал членом Государственного совета и уже готовился возглавить Министерство юстиции. Трудно представить его (как, впрочем, и подавляющее большинство сенаторов) в какой-либо оппозиции, противостоящей верховной власти. Напротив, после свёртывания «либеральной системы» гр. Лорис-Меликова Михаил Евграфович понемногу «правел» вместе с правительственным курсом.
При чтении книги Верещагина остаётся впечатление, что императорам следовало опасаться не ограничения своей власти чинами судебного ведомства, не имевшими для этого никаких рычагов, а влияния на суды со стороны подвижных и незрелых общественных настроений (с. 197). «Источником давления на суд, – отмечает автор, – было не только и даже не столько правительство, сколько общественное мнение, находившееся под обаянием радикальных и прогрессистских идей. Судьи принадлежали в то время сразу двум мирам: правительственному и общественному, которые не были отделены друг от друга непроходимой стеною, а, напротив, связаны тысячей нитей» (с. 223). Публичность изначально рассматривалась как одно из средств оздоровления атмосферы в судах. Резонансность судебных решений меняла правосознание общества. Но она же делала неизбежным и обратное воздействие. Судьи становились не просто частью двух миров, но и слугами двух господ…
В сочетании с независимостью это порою вызывало у судей стремление занять позицию арбитра между правительством и обществом, а то и встать над схваткой между государством, чьё существование они были призваны защищать, и революционерами, которых по долгу службы и присяги им надлежало преследовать. В итоге суды попадали в фальшивое положение и вызывали недовольство у всех – и в правящих кругах, и у фрондирующей общественности. Оставалось утешаться принципами «верховенства права», убеждая себя в том, что право – не один из инструментов власти, а некая трансцендентная сущность, требующая псевдорелигиозного поклонения. А. Н. Верещагин с сочувствием пишет о дореволюционной «религии права» и веровавших в неё юристах. Однако наивная вера в то, что «правовой строй» и государственные институты существуют не благодаря, а вопреки неограниченной авторитарной власти, выстраивающей сложный баланс законности и чрезвычайных мер, насилия и гуманности, дорого стоила Российской империи. Успешная борьба с «рецидивами деспотизма» завершилась крахом «правомерного самодержавия» и десятилетиями беззакония, глумливо прикрытого конституционными формами и «правами».
1 Краковский К. П. Размышления о судьбах кассационного суда в пореформенной России, спровоцированные книгой А. Н. Верещагина «Кассационный Сенат (1866–1917). Очерки устройства и деятельности верховного суда Российской империи» (М.: Издательская группа «Закон», 2022. 616 с.) // Северо-Кавказский юридический вестник. 2022. № 4. С. 146–159.
2 Коротких М. Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России. Воронеж, 1989. С. 92–93.
3 Виленский Б.В., Чистяков О. И. Введение // Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 8 / Отв. ред. Б. В. Виленский. М., 1991. С. 10.
4 А ведь и те материалы, которые уже изучались и цитировались, нуждаются порою в новом прочтении и перепроверке. Так, Верещагин с явным недоумением отмечает, что кн. П. П. Гагарин в дневнике почему-то именовал монарха «господином» (с. 45). При этом записи цитируются по той же книге Коротких (и, к сожалению, с неверным указанием страницы – с. 69 вместо с. 122). В оригинале же князь использовал выражение le maître (ГА РФ, ф. 728, оп. 1, д. 2197, ч. 10, л. 36 об.), что с учётом словоупотребления XIX в. следовало бы перевести скорее как «повелитель», «владыка» (или даже «хозяин», но тут уже возникнут аллюзии более позднего времени). Полностью фраза могла звучать как auguste maître (ср.: Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел. В 2 т. / Под ред. П. А. Зайончковского. Т. 2. М., 1961. С. 49, 367), но в памятной книжке сокращалась.
5 А.Н. Куломзин, зять Замятнина, позднее писал, будто министр перед составлением указа обмолвился о том, что «члены судов пользуются правом несменяемости», и услышал от Александра II в ответ: «Но не для меня» (с. 184).
6 Половцов А. А. Дневник. 1859–1882. В 2 т. / Сост. О. Ю. Голечкова, С. В. Куликов, К. А. Соловьёв. Т. 1. М., 2022. С. 365.
7 Там же. С. 361.
8 Кони А. Ф. Воспоминания о деле Веры Засулич // Кони А. Ф. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 2 / Под ред. В. Г. Базанова, Л. Н. Смирнова, К. И. Чуковского. М., 1966. С. 193–194, 206–208.
9 Там же. С. 202–209.
10 Там же. С. 207. В некрологе, посвящённом Мотовилову, Кони, похоже, умышленно стушевал эти обстоятельства (Кони А. Ф. Отцы и дети Судебной реформы: к пятидесятилетию Судебных уставов. М., 2003. С. 209–210).
11 Кони А. Ф. Воспоминания о деле Веры Засулич. С. 193–209.
12 ПСЗ-II. Т. 54. Отд. I. СПб., 1881. № 59476. С. 298–299; Отд. II. СПб., 1881. № 60492. С. 450–451.
13 ПСЗ-III. Т. 1. СПб., 1885. № 550. С. 265.
14 Подробнее см.: Крестьянников Е. А. Предварительное следствие по делу о томском погроме 1905 г. и сибирская юстиция // Российская история. 2023. № 2. С. 88, 93–98.
15 Дневник П. А. Валуева… Т. 1. М., 1961. С. 77, 314.
16 Половцов А. А. Дневник. 1859–1882. Т. 1. С. 79–87; Русские уголовные процессы / Изд. А. Любавского. Т. 1. СПб., 1866. С. 334–364.
About the authors
Andrey V. Mamonov
Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
старший научный сотрудник
Russian Federation, MoscowReferences
- Виленский Б.В., Чистяков О.И. Введение // Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 8 / Отв. ред. Б.В. Виленский. М., 1991. С. 10.
- Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. В 2 т. / Под ред. П.А. Зайончковского. М., 1961.
- Кони А.Ф. Воспоминания о деле Веры Засулич // Кони А.Ф. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 2 / Под ред. В.Г. Базанова, Л.Н. Смирнова, К.И. Чуковского. М., 1966.
- Кони А.Ф. Отцы и дети Судебной реформы: к пятидесятилетию Судебных уставов. М., 2003.
- Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России. Воронеж, 1989. С. 92–93.
- Краковский К.П. Размышления о судьбах кассационного суда в пореформенной России, спровоцированные книгой А.Н. Верещагина «Кассационный Сенат (1866–1917). Очерки устройства и деятельности верховного суда Российской империи» (М.: Издательская группа «Закон», 2022. 616 с.) // Северо-Кавказский юридический вестник. 2022. № 4. С. 146–159.
- Крестьянников Е.А. Предварительное следствие по делу о томском погроме 1905 г. и сибирская юстиция // Российская история. 2023. № 2. С. 88, 93–98.
- Половцов А.А. Дневник. 1859–1882. В 2 т. / Сост. О.Ю. Голечкова, С.В. Куликов, К.А. Соловьёв. Т. 1. М., 2022. С. 365.
Supplementary files