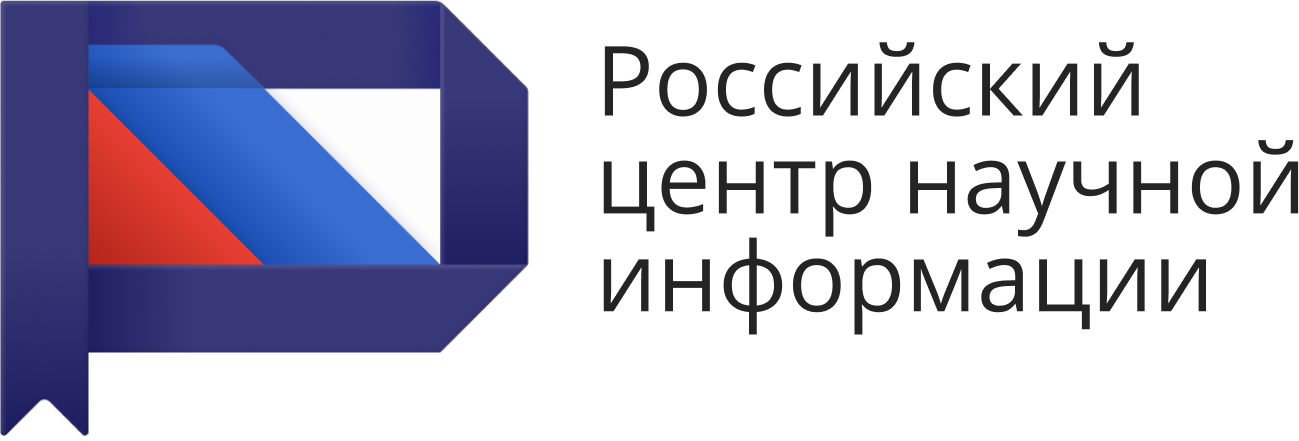М.М. Бахтин об А.С. Пушкине
- Авторы: Шульц С.А.
- Выпуск: Том 5, № 1 (2023)
- Страницы: 46-55
- Раздел: Диалоги
- Дата подачи: 24.09.2024
- Дата принятия к публикации: 24.09.2024
- Дата публикации: 15.06.2023
- URL: https://journals.rcsi.science/2658-5480/article/view/264505
- ID: 264505
Цитировать
Полный текст
Аннотация
У М.М. Бахтина выстраиваются контуры достаточно гибкой целостной интерпретации пушкинского творчества. В статье выделяются три основных смысловых узла, в которых происходит осмысление Бахтиным Пушкина. Первый основан на ценностно-философском подходе и связан с диалогической идеей взаимопроникновения личностных ценностно-идеологических контекстов и кругозоров автора и героев. Второй посвящен романной поэтике и прозаизации. Третий соотнесен с теорией карнавала. Несмотря на нередкую интенцию иллюстративности по отношению к собственно философско-филологической идее исследователя, бахтинские характеристики многое привносит в наше понимание органики пушкинского мира. С другой стороны, творчество Пушкина приобретает освещающее значение для понимания бахтинских концепций. Бахтинская пушкинистика с особой отчетливостью обнаруживает герменевтичность бахтинского метода: толкование текста рождается из исторически осмысленной субъективности интерпретатора. Назовем эту субъективность ответственной: она ответственна постольку, поскольку отмечена такими чертами, как масштабность мысли и глубина проникновения в предмет. Вместе с тем указанная субъективность укоренена в органических, живых движениях события бытия, в особо трактованном герменевтическом предпонимании-кругозоре.
Ключевые слова
Полный текст
Фигура А.С. Пушкина привлекала внимание М.М. Бахтина на протяжении всего научного пути исследователя: от ранних работ 1920-х годов до позднейших заметок. Входил ли поэт в круг ключевых, предпочтительных для бахтинской филологии и культурфилософии авторов или занимал в его научном творчестве достаточно факультативное место?
К. Кларк и М. Холквист, например, сужают число «любимых фигур личного пантеона Бахтина» до четырех (Рабле, Гете, Достоевский, Данте), и здесь не находится места Пушкину [38, с. 295]. Исключен он и из списка «собеседников-единоверцев» ученого, составленного В.Н. Турбиным (Руссо, Гете, Гоголь, Вяч. Иванов, Флобер, Рабле, Достоевский) [27, с. 29–30]1.
В то же время при некотором расширении круга – по сравнению с подходом Кларк/Холквиста и Турбина – контекст изменяется, и ситуация с бахтинскими «точками опоры» предстает в ином свете. Именно поэтому Пушкин, наряду с Достоевским, Рабле, Гете, Шекспиром, Данте, Гоголем и Флобером, закономерно назван С.Г. Бочаровым и Л.А. Гоготишвили «одним из опорных звеньев» «историко-теоретических концепций» Бахтина [17, с. 496]. Этот список представляется предельно взвешенным и сбалансированным, что заставляет говорить о неслучайности присутствия Пушкина в бахтинском мире.
В самом деле, пушкинское творчество в той или иной форме соотносится Бахтиным с важнейшими моментами его построений. К ним относятся «философия поступка», концепция автора и героя, романная поэтика и теория романизации, прозаизация, диалогизм, теория карнавала. Это позволяет увидеть в Пушкине постоянного духовного собеседника Бахтина. Вместе с тем, как нередко бывает у Бахтина, ключевые идеи, касающиеся, в частности Пушкина, только более или менее намечены, что, однако, лишь увеличивает смысловую перспективу и предоставляет читателям возможность сотворчества.
Бахтин не «пристегивает» поэта к своим теориям, не «модернизирует» его на свой лад, в то же время рассматривая его в достаточно неожиданных контекстах, что сближает Бахтина с одной из ведущих историко-философских и историко-литературных линий XX в. (М. Хайдеггер, Г.-Г, Гадамер, П. Рикер, Ф. Лаку-Лабарт и др.), когда предмет осмысляется через призму исследовательской субъективности, понятой исторически. Эта линия – по преимуществу герменевтическая (ср.: [16], а также: [30; 31; 33].
В работе «<К философии поступка>» (1920–1924) имя Пушкина привлекается как пример диалогического контакта в рамках пары автор/герой и взаимоотношений героев в целом произведения. Бахтин рассматривает художественное произведение в плане его внутреннего диалогизма, показывая взаимопроникновение различных личностных ценностно-идеологических кругозоров-самосознаний2 автора и героев.
Анализируя в этой связи пушкинское стихотворение «Для берегов отчизны дальной…», исследователь выделяет в нем контексты лирического героя и героини, демонстрируя, что второй контекст, не теряя своей самостоятельности, «объемлется первым (ценностно утверждается им)» [7, с.60)]. В свою очередь, оба этих контекста «объемлются единым ценностно-утверждающим контекстом автора-художника <...> и созерцателя», находящегося в позиции «вненаходимости» [7, с. 60)]. «Ценностное» у раннего Бахтина означает те или иные варианты картины мира, что шире обычной аксиологии. Уже в 1930-е гг. Бахтин отказывается от ценностных категорий, практически уходя от аксиологии. Последние же строки стихотворения – «Исчез и поцелуй свиданья... / Но жду его – он за тобой!» – утверждают идею того, что не замкнут круг событийного взаимопроникновения ценностных контекстов героев, что надежда на свидание сохраняется и после смерти героини [7, с. 64].
Примерно в то же время, но на несколько ином витке своего теоретизирования Бахтин возвращается к этому же стихотворному тексту в обширном фрагменте работы «<Автор и герой в эстетической деятельности>» (1920–1924). Уже в первых двух строках Бахтин обнаруживает глубинное взаимодействие различных субъективных контекстов:
«Для берегов отчизны дальной
Ты покидала край чужой...
«”Берега отчизны” лежат в ценностном пространственно-временном контексте жизни героини, для нее, в ее эмоционально-волевом тоне возможный пространственный кругозор становится отчизною: это момент события в ее жизни»; в то же время этот момент конкретизирован здесь одновременно и в «направлении к герою», в «контексте его судьбы»: «ты покидала»; «в направлении к ней лучше было бы сказать “возвращалась”, ведь она едет на родину» [2, с. 72–73].
Теперь пушкинский шедевр используется прежде всего для описания «архитектонической функции ценностного мира человека в художественном целом» [2, c. 73]. Во многом в пику аристотелевско-гегелевской эстетике на примере этого стихотворения исследователь заостряет момент неизбежного различия между автором и его героем: даже автору-лирику необходим герой в качестве некоей точки центрирования реальности как многополюсной реальности сознания. Иначе говоря, согласно Бахтину, и в лирике не бывает чистого самораскрытия «от себя», чистого «подражания субъекту». Причем различие между автором и героем носит эмоционально-волевой, ценностно-эстетический характер.
По мнению Бахтина, тема любви и смерти как основная в этом произведении, будучи в принципе этической, все же оказывается тут «лишена своего этического жала», «закрыта образом поцелуя» – а это «центральный тематический образ» [2, c. 79]. То есть читатель оценивает событие стихотворения сугубо в плане его эстетического осуществления, как уже завершенное и разрешенное «для нас» событие – «хотя прозаический анализ мог бы и должен был бы философски-религиозно углубить эту тему в соответствующем направлении» [2, с. 80].
На пушкинском материале Бахтин показывает, что образу в сознании автора может предшествовать понятие как часть познавательного уровня творческой деятельности. Ценностные категории, согласно Бахтину, характеризуют и внутренние миры героев, и весь мир произведения (предметности) в их конкретике: «… оценка проникает предмет, более того, оценка создает образ предмета, именно формально-эстетическая реакция сгущает понятие в образ предмета» [2, с. 77].
Интенции пушкиноведческих разборов Бахтиным лирики отчасти были востребованы С.Н. Бройтманом при создании им концепции диалога в русской лирике [см.: 20]. Бройтман отмечает, что рефлексы диалога в русской лирике начинаются с Пушкина [21, с. 105–134]. Последующее развитие концепции диалога в пушкинском творчестве, принадлежащее И.С. Юхновой, также опирается на идеи Бахтина [35; 36].
Романная поэтика изучалась Бахтиным в том числе за счет обращения к «Евгению Онегину» («Слово в романе», 1934–1935; «Из предыстории романного слова», 1940 и др.). В соответствии с установками бахтинской поэтологии «Евгений Онегин» рассматривался в плане диалогической стилистики, а также в плане ценностно-философского значения формы. Почти как и в случае с Достоевским, чисто содержательный («тематический») уровень произведения оказывается словно за пределами внимания исследователя, однако это делает толкование еще более глубоким. Бахтиным отмечается условно-пародийный характер стилистики пушкинского «романа в стихах» («самокритика литературного языка эпохи» [5, c. 521]) и почти отсутствие собственного прямого языка автора, хотя все же автор оказывается «вездесущ» в произведении [5, c. 519]. Необходимость учета диалогически-пародийного контекста становления основных героев особо подчеркивается. В противном случае, как метко сказано Бахтиным, мы интерпретируем не столько произведение Пушкина, сколько его мелодраматическую версию, вошедшую в широкий оборот благодаря опере Чайковского, исключившей пародийные моменты «Евгения Онегина» [13, 177].
Бахтин выделяет в «романе в стихах» три основных «голоса» или «образа языка», принадлежащие трем главным героям: Онегину, Ленскому и Татьяне. При этом «голос» –это личностно-идеологический «голос», а «образ языка» – также личностно-идеологический, выражение мировоззрения и сущности личности (ее самосознания). Самый яркий случай несовпадения подразумеваемого авторского «образа языка» и языка героя обнаруживается в пассажах, посвященных Ленскому. Образ стиля Ленского –«образ чужого поэтического стиля сентиментально-романтического» [5, с. 516], неизменно вышучиваемый Пушкиным. В частности оценка поэзии Ленского, как показано Бахтиным, дается в основном «в зоне» голоса самого Ленского:
«Он пел любовь, любви послушный,
И песнь его была ясна,
Как мысли девы простодушной,
Как сон младенца, как луна... –
«Здесь “песнь” Ленского сама себя характеризует, на своем языке, в своей поэтической манере» – причем автор воспринимает стилистику Ленского явно иронически; зато «прямая пушкинская характеристика “песни” Ленского <...> звучит совершенно иначе:
Так он писал темно и вяло...» [13, с. 83; 5, с. 515–516].
По мнению Бахтина, все в той же зоне Ленского построены сцена дуэли и поминальный плач о погибшем поэте, однако при этом туда все время вмешивается реалистический и трезвый авторский голос. Зато «зона», «район действия» голоса Онегина осваиваются автором несколько в ином ключе: мысли Онегина могут в значительной мере вызывать сочувствие Пушкина, хотя он «и видит ограниченность и неполноту онегинско-байронического мировоззрения и стиля» [5, с. 517]. Так язык автора (авторское сознание, авторская позиция) оказывается гораздо ближе к языку Онегина, чем к языку Ленского, «он (т. е. автор. – С.Ш.) уже не только вне его, но и в нем; он не только изображает этот «язык», но в известной мере и сам говорит на нем [5, c. 517]. Герой находится в зоне возможной беседы с ним, в зоне диалогического контакта. Таким образом, чужой голос-мировоззрение оказывается одновременно «и изображающим, и изображенным», что типично для величайших романных образов (например, образа Дон Кихота)» [5, c. 518].
Наконец, голос Татьяны охарактеризован Бахтиным через «своеобразное сочетание мечтательно-сентиментального ричардсоновского языка “барышни уездной” с народным языком няниных сказок и бытовых рассказов, крестьянских песен, гаданий и т. п. Ограниченное и почти смешное, старомодное в этом языке сочетается с безгранично серьезной и прямой правдой народного слова» [5, c. 518–519]. При этом Пушкин «не только изображает этот язык, но и весьма существенно говорит на нем. Значительные части романа даны в зоне голоса Татьяны» [5, c. 519].
Очевидно, что главным в «романе в стихах» для Бахтина оказывается уходящая в даль смысловая перспектива пересечения различных идеологических «голосов». В результате этого художественная идея приобретает вид сложной, противоречивой целостности – целостности непрерывного продуктивного «мерцания» различных значений и жизненных позиций, которые принципиально не могут быть сведены к единому знаменателю. Поэтому точка в художественно-экзистенциальном диалоге героев (то есть в диалоге самой жизни, от «лица» которой выступает роман) не поставлена и не может быть поставлена. Распространенная же Р.О. Якобсоном на пушкинский роман концепция романтической иронии [37] при многих верных аспектах превращает разноречие романа отчасти в монолог.
Ставшую расхожей формулу Белинского о «Евгении Онегине» – «энциклопедия русской жизни» – Бахтин пытается «приручить», истолковывая на свой лад: в понятие «энциклопедии» им включается идеологическое многоязычие [5, с. 521]. Эти и другие бахтинские интуиции о пушкинском романе были впоследствии развиты С.Г. Бочаровым [19], Н.Д. Тамарченко [26], С.А. Дубровской [22, c. 100–116].
В «Повестях Белкина» Бахтиным особо отмечается вымышленная фигура повествователя и «издателя» как «чужой голос» [10, c. 214], привносящий продуктивное остранение эксплуатируемых в цикле поэтически-романтических штампов за счет принципиально «непоэтического», трезвого взгляда на них: «Белкин, равно как и рассказчики третьего плана, из уст которых он воспринял свои рассказы, “прозаический” человек, лишенный поэтической патетики. Благополучные “прозаические” разрешения сюжетов и самое ведение рассказа нарушают ожидания традиционных поэтических эффектов. В этом непонимании поэтической патетики прозаическая продуктивность точки зрения Белкина» [5, c. 67]. Образом Белкина Бахтин характеризует такого рассказчика, который «может нисколько не ослаблять единовидящего и единознающего монологизма авторской позиции и нисколько не усиливать смысловой весомости и самостоятельности слов героя» [10, с. 67].
Бахтин подчеркивает в «Повестях Белкина» «существенно-прозаические темы»: «мистификации, профанации, случайности, выпадения из нормы» [8, с. 10]. Прозаизм в данном случае означает «фамильярный контакт» с незавершенным настоящим, диалогизм, социальное разноречие. Отмеченный Бахтиным диалогический зазор между образом Белкина-рассказчика и привносимым им жизненно-художественным материалом, между образом рассказчика и автором цикла, стал предметом анализа С.Г. Бочарова [18].
Выделим также замечания Бахтина о принципиально диалогических, «неовнешняющих» принципах изображения «маленького человека» в одной из новелл «Повестей Белкина»: «Ответственность за своего героя как за живого человека, боязнь принизить в нем человека, оскорбить в нем человеческое достоинство, завершить его до конца. Стремление расширить человечность, найти человека там, где его до сих пор не искали (“Станционный смотритель”)» [6, c. 76].
Третий большой узел бахтинских построений, содержащих аллюзии на Пушкина, связан с карнавальной теорией. Ученый собирался написать в связи с этим специальную статью о Пушкине. Ряд наблюдений на эту тему разбросан по страницам «Проблем поэтики Достоевского» (1963), «Творчества Франсуа Рабле и народной культуры средневековья и Ренессанса» (1965) и др. Отголоски карнавального мировоззрения обнаруживаются Бахтиным особенно в «”Борисе Годунове”, повестях Белкина, болдинских трагедиях и “Пиковой даме”» [10, с. 179]. Бахтин указывал, что «веселый разум» Пушкина «сродни Рабле» [9, c. 640]. Так, в эпизоде кошмарного сна самозванца (“Внизу народ на площади кипел / И на меня указывал со смехом”) прямо подчеркивается оттенок развенчивающего «хорового смеха» (при этом проводится параллель и с мистическими снами Раскольникова), проводится сближение арены действия трагедии с карнавальной площадью [14, c. 507–508; 10, с. 191]. Недаром в народной традиции Отрепьева считали еретиком и колдуном, который отличен от всех своим «антиповедением»: хранит иконы под кроватью, а на их место ставит скоморошью маску. «Скоморохом» назван герой и у Пушкина. Таким образом, беглый монах Гришка Отрепьев оказывается с неизбежностью подлежащим развенчанию карнавальным королем дураков, что и происходит в трагедии. Пушкин прекрасно чувствовал связь своей пьесы – в том числе на уроне жанра – со всеми этими традиционально-архаическими явлениями, недаром же в первом варианте она имела «средневековое», почти «мистерийное» заглавие: «Комедия o настоящей беде Московскому государству, o царе Борисе и о Гришке Отрепьеве»
Комментируя идеи Бахтина о большом значении вертепной драмы в трансплантации карнавального начала и развивая их, И.Л. Попова замечает, что рождественская мистерия, показывающая смерть Ирода, является ядром, глубинной подосновой «Бориса Годунова», и в истории о «царе Ироде» звучат ее основные тона [23, с. 492]. Этой же исследовательницей подмечены вертепные элементы «Бориса Годунова», выражающиеся в «двухъярусности» художественного пространства трагедии [24]. В самом деле, юродивый Николка прямо называет Бориса «царем Иродом», а убийство Годуновым малолетнего царевича – отражением избиения младенцев Иродом. Видения Годунова (“И мальчики кровавые в глазах”) закрепляют эти параллели.
Бахтиным также производятся сопоставления героев и ситуаций «Пиковой дамы» и «Преступления и наказания» (позже отчасти расширенные Н.Д. Тамарченко [25]): «”наполеонизм” на специфической почве молодого русского капитализма <...> получает второй, убегающий в бесконечную смысловую даль карнавальный план» [10, с. 190], в результате чего обнаруживается преемственность между Германном и Раскольниковым, с их «карнавализованным» наполеоновским комплексом, который предопределяет их сознание, движет их поступками.
Герои «Моцарта и Сальери» привлекаются Бахтиным как примеры, с одной стороны, «открытой серьезности», допускающей смех, пародию (Моцарт) и, с другой стороны, мрачного догматизма (Сальери). Ключевой в этом смысле является сцена со слепым стариком-скрипачем: Моцарт весело смеется над фальшивыми парафразами своей музыки, а Сальери, будучи агеластом, негодует [14, с. 135, сноска 1]3.
Нарушение карнавального круговорота длящейся, незавершенной жизни Бахтин находит вновь в связи с решением этой темы у Достоевского, в «Скупом рыцаре», где присутствует конфликт между отцом и сыном и возникает тема гипотетического отцеубийства4. С карнавалом, согласно Бахтину, Пушкин так или иначе соотносит мотив всемогущества, даваемого богатством: «Тема власти денег уже у Пушкина вливается в карнавальную традицию (“преисподняя”-подвал барона, вражда отца с сыном, “Сцены из рыцарских времен”, “Пиковая дама”)» [3, c. 118].
Бахтинское замечание означает, что полагание денег в качестве предмета страсти и поклонения приводит к нарушению и смещению обычных иерархий, к переворачиванию мирового порядка: скупой рыцарь становится тайным властелином мира, распря проникает в самое семью, офицер-педант, имевший репутацию прагматика, вовлекается в азартную игру и сходит с ума и т. д. Причем эти смещения не носят однобоко катастрофического оттенка: в контексте «большого времени», с которым связан карнавал, они способны расцениваться как момент все обновляющегося бытия, как толчок к отказу от застывшего. Пушкинский набросок «Марья Шонинг» также сближен Бахтиным с карнавальной темой: «<...> смерть – смех, психическое раздвоение, проститутка – убийство и т. п.» [4, c. 376].
Само обращение Бахтина с пушкинскими текстами наделено оттенками карнавальности. В частности, избирая эпиграфом ко второй главе книги о Рабле («Площадное слово в романе Рабле») две строки из «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы», Бахтин дает вторую строку в редакции Жуковского: «Я понять тебя хочу, / Темный твой язык учу» [14, с. 159].
В развитие бахтинской мысли о «прозаизме» «Повестей Белкина» и роли карнавального начала в искусстве В.И. Тюпа проанализировал значение и роль в них различных «карнавальных пар» [28]. Карнавальные мотивы в творчестве Пушкина рассматривала также С.А. Дубровская [22, c. 78–129]. Под влиянием идей Бахтина, а также Д.С. Лихачева и А.М. Панченко «смеховой мир» «Бориса Годунова» трактован С.А. Фомичевым, отметившим, что Пушкин представил скоморошество и юродство «в их подлинном виде, а не в качестве притворных масок» [29, с. 64–65]5. К работе Фомичева примыкает текст С.З. Аграновича [1].
Как видим, у Бахтина выстраиваются контуры достаточно гибкой целостной интерпретации пушкинского творчества. Выделяются три основных смысловых узла, в которых происходит осмысление Бахтиным Пушкина. Первый основан на ценностно-философском подходе и связан с диалогической идеей взаимопроникновения личностных ценностно-идеологических контекстов и кругозоров автора и героев. Второй посвящен романной поэтике и прозаизации. Третий соотнесен с теорией карнавала. Несмотря на нередкую интенцию иллюстративности по отношению к собственно философско-филологической идее исследователя, бахтинские характеристики многое привносит в наше понимание органики пушкинского мира. С другой стороны, творчество Пушкина приобретает «большое освещающее значение для понимания» [15, c. 533] бахтинских концепций.
Бахтинская пушкинистика с особой отчетливостью обнаруживает герменевтичность бахтинского метода: толкование текста рождается из исторически осмысленной субъективности интерпретатора. Назовем эту субъективность ответственной: она ответственна постольку, поскольку отмечена такими чертами, как масштабность мысли и глубина проникновения в предмет. Вместе с тем указанная субъективность укоренена в органических, живых движениях события бытия, в особо трактованном философском предпонимании-кругозоре [8]. В случае Бахтина мы имеем дело не просто с русским вариантом герменевтики, но с новым модусом научности, во многом определившем лицо гуманитаристики XX–XXI вв.
1 Присутствие здесь Руссо явно вызывает вопросы.
2 «Кругозор» у Бахтина означает чаще всего именно «самосознание».
3 Попытка «карнавальной» интерпретации «Моцарта и Сальери» и остальных «Маленьких трагедий» предпринята в нашей работе: [см.: 32].
4 В связи с показанным в «Скупом рыцаре» конфликте поколений ср. выделенное Бахтиным послание Гаргантюа Пантагрюэлю, где выражены обратные интенции о единстве различных поколений в смысловой горизонтали. В первой редакции книги о Рабле («Рабле в истории реализма») об этом сказано так: «Но тот же мотив <мотив страха перед сыном> играет существенную роль в «Скупом рыцаре» Пушкина. Скупой барон не лжет, обвиняя сына в том, что он хочет его убить и обокрасть; у него, правда, нет доказательств э м п и р и ч е с к о г о порядка, но он знает, что сын по самой своей природе есть тот, кто будет жить после него и будет владеть его добром, т. е. убийца и вор. Скупой барон, как Хронос, хочет быть вечным, не иметь наследников (“О, если б из могилы придти я мог, сторожевою тенью сидеть на сундуке и от живых сокровища мои хранить как ныне”). Поэтому и молодому Альберу не случайно подсказывают мысль об отцеубийстве» [12, с. 240].
5 Фомичеву во многом возразила К. Эмерсон, настаивающая при этом на жанровой атрибуции «Бориса Годунова» как трагикомедии [34]. Но подобная атрибуция, на наш взгляд, не отрицает трактовки Фомичева.
Об авторах
Сергей Анатольевич Шульц
Автор, ответственный за переписку.
Email: s_shulz@mail.ru
доктор филологических наук, независимый исследователь
Россия, Ростов-на-ДонуСписок литературы
- Агранович С.З. Народная смеховая культура в трагедии Пушкина «Борис Годунов» // Содержательность форм в художественной литературе. Проблемы поэтики. Самара, 1991. С. 3–15.
- Бахтин М.М. <Автор и герой в эстетической деятельности> // Бахтин М.М. Собрание сочинений. В 7 тт. Т. 1. М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2003. С. 69–264.
- Бахтин М.М. Дополнения и изменения к Рабле // Бахтин М.М. Собрание сочинений. В 7 тт. Т. 5. М.: Русские словари, 1996. С. 80–129.
- Бахтин М.М. Заметки 1962 г. – 1963 г. // Бахтин М.М. Собрание сочинений. В 7 тт. Т. 5. М.: Русские словари, 1996. С. 375–378.
- Бахтин М.М. Из предыстории романного слова // Бахтин М.М. Собрание сочинений. В 7 тт. Т. 3. М.: Языки славянской культуры, 2012. С. 513–551.
- Бахтин М.М. <К вопросам самосознания и самооценки> // Бахтин М.М. Собрание сочинений. В 7 тт. Т. 5. М.: Русские словари, 1996. С. 72–79.
- Бахтин М.М. <К философии поступка> // Бахтин М.М. Собрание сочинений. В 7 тт. Т. 1. М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2003. С. 7–68.
- Бахтин М.М. К философским основам гуманитарных наук // Бахтин М.М. Собрание сочинений. В 7 тт. Т. 5. М.: Русские словари, 1996. С. 7–10.
- Бахтин М.М. Письмо Н.М. Любимову от 24 июня 1962 г. // Бахтин М.М. Собрание сочинений. В 7 тт. Т. 4 (2). М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2010. С. 639–640.
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М.М. Собрание сочинений. В 7 тт. Т. 6. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 5–300.
- Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского // Бахтин М.М. Собрание сочинений. В 7 тт. Т. 2. М.: Русские словари, 2000. C. 5–175.
- Бахтин М.М. Франсуа Рабле в истории реализма // Бахтин М.М. Собрание сочинений. В 7 тт. Т. 4 (1). М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2008. С. 11–505.
- Бахтин М.М. Слово в романе // Бахтин М.М. Собрание сочинений. В 7 тт. Т. 3. М.: Языки славянской культуры, 2012. С. 9–179.
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса // Бахтин М.М. Собрание сочинений. В 7 тт. Т. 4 (2). М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2010. С. 7–508.
- Бахтин М.М. Творчество Рабле и проблема народной культуры средневековья и Ренессанса. <Дополнения и изменения к редакции 1949–1950 гг.> // Бахтин М.М. Собрание сочинений. В 7 тт. Т. 4 (1). М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2008. С. 517–601.
- Бонецкая Н.К. Бахтин и идеи герменевтики // Бонецкая Н.К. Бахтин как философ. Поступок, диалог, карнавал. СПб.: Алетейя, 2022. С. 357–405.
- Бочаров С.Г., Гоготишвили Л.А. Комментарии // Бахтин М.М. Собрание сочинений. В 7 тт. Т. 5. М.: Русские словари, 1996. С. 492–507.
- Бочаров С.Г. Пушкин и Белкин // Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина. Очерки. М.: Наука, 1974. С.127–187.
- Бочаров С.Г. Стилистический мир романа («Евгений Онегин») // Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина. Очерки. М.: Наука, 1974. С. 26–104.
- Бройтман С.Н. Проблема диалога в русской лирике первой половины XIX века: учеб. пособие по спецкурсу / Даг. гос. ун-т им. Ленина. Махачкала, 1983. 80 с.
- Бройтман С.Н. Русская лирика XIX – начала XX вв. в свете исторической поэтики. М.: РГГУ, 1997. 307 с.
- Дубровская С.А. От «Арзамаса» до Гоголя: смеховое слово в пространстве русской литературы 1810-х – начала 1840-х гг. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2018. 252 с.
- Попова И.Л. Комментарии // Бахтин М.М. Собрание сочинений. В 7 тт. Т. 5. М.: Русские словари, 1996. С. 473–492.
- Попова И.Л. Немая сцена у Пушкина и Гоголя («Борис Годунов» и «Ревизор») // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1991. Т. 50. № 5. С. 459–466.
- Тамарченко Н.Д. «Пиковая дама» А.С. Пушкина и «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского (о преемственности нравственно-философской проблематики). Дисс. … канд. филол. наук. Л., 1972.
- Тамарченко Н.Д. Русский классический роман. М.: РГГУ, 1997. 202 с.
- Турбин В.Н. О Бахтине // Турбин В.Н. Незадолго до Водолея. М.: Радикс, 1994. С. 29–30.
- Тюпа В.И. Карнавальные пары в «Повестях Белкина» // Поэтика русской литературы. К 70-летию проф. Ю.В. Манна. М.: РГГУ, 2001. С. 45–56.
- Фомичев С.А. Смеховой мир «Комедии о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве» // Фомичев С.А. Пушкинская перспектива. М.: Знак, 2007. С. 62–88.
- Шульц С.А. М.М. Бахтин, Р. Ингарден, П.П. Пазолини о категории «ответственности» // Slavica Tergestina. Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2017, Vol. 19. № 2. C. 226–243.
- Шульц С.А. Достоевский, Аполлон Григорьев, Бахтин // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest, 2020. Т. 65. № 1. С. 193–207.
- Шульц С.А. Карнавал и мифопоэтика (на материале «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина) // М.М. Бахтин и проблемы современного гуманитарного знания. Материалы межвузовской науч. конф. Ростов-на-Дону, 1995. C. 18–27.
- Шульц С.А. Наследие М.М. Бахтина: контуры целостности // Slavica Wratislavensia, 2021. T. 174. S. 69–81.
- Эмерсон К. «Борис Годунов»: трагедия, комедия, карнавал и история на сцене // Эмерсон К. Очерки по русской литературной и музыкальной культуре. Бостон; СПб.: Academic Studies Press; БиблиоРоссика, 2020. С. 137–166.
- Юхнова И.С. Интерпретация художественного текста сквозь призму концепции диалога (на материале творчества А.С. Пушкина) // М.М. Бахтин в современном мире: Материалы VI международ. саранских Бахтинских чтений, посвящ. 120-летию со дня рожд. ученого, Саранск, 25–26 нояб. 2015 г. Саранск: изд-во Мордов. ун-та, 2016. С. 242–248.
- Юхнова И.С. Общение и диалог в творчестве Пушкина. Саранск, 2014. 204 с.
- Якобсон Р.О. Заметки на полях «Евгения Онегина» // Якобсон Р.О. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. С. 219–224.
- Clark K., Holquist M. Mikhail Bakhtin. Cambridge, Mass.; London: Belknap press of Harvard Univ. press, 1984. 398 p.