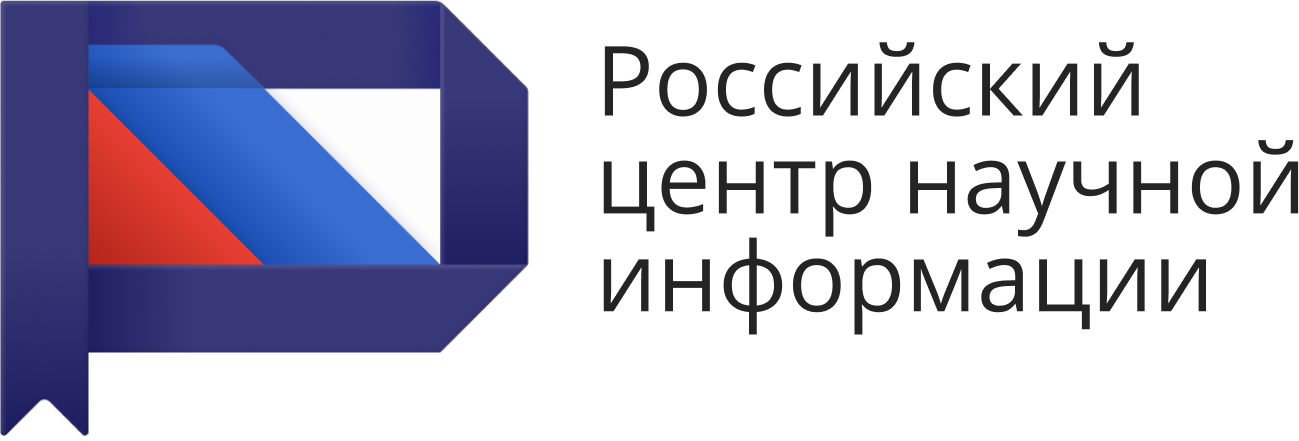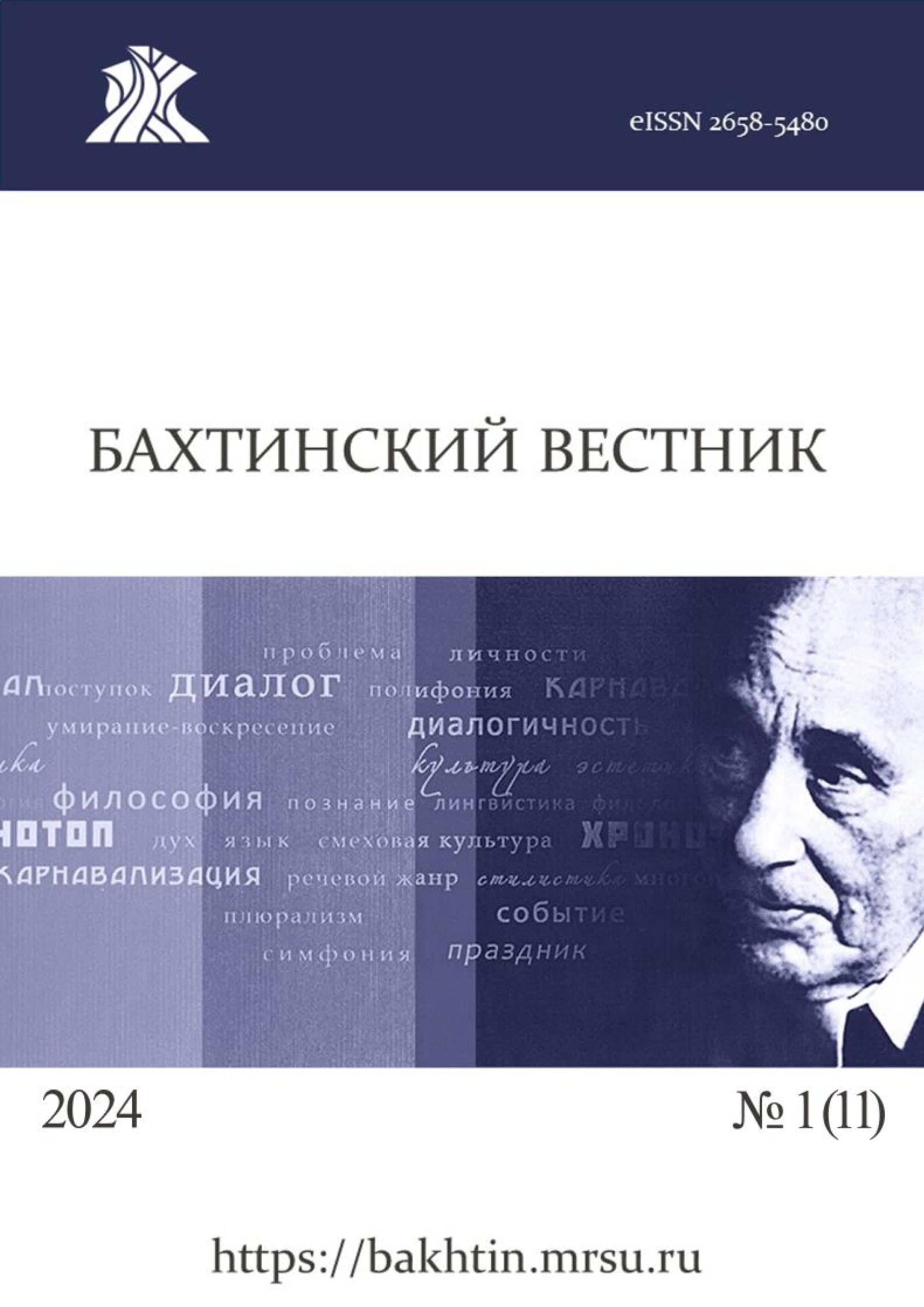Ответ на вопрос: Откуда взялся Бахтин?
- Авторы: Махлин В.Л.1
-
Учреждения:
- Институт научной информации по общественным наукам Российской Академии наук
- Выпуск: Том 6, № 1 (2024)
- Страницы: 4-17
- Раздел: Теоретические исследования
- Дата подачи: 11.09.2024
- Дата принятия к публикации: 11.09.2024
- Дата публикации: 27.09.2024
- URL: https://journals.rcsi.science/2658-5480/article/view/263554
- ID: 263554
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье старый вопрос бахтинистики «Откуда взялся Бахтин?» ставится в историко-систематическом ключе. Автор статьи старается приблизиться к ответу на поставленный вопрос, опираясь на понятие «смена парадигм», но не в области естествознания (как в книге Т. Куна о научных революциях), а в плане гуманитарной эпистемологии. На событийном фоне революции в способе гуманитарного мышления в «столетнее десятилетие 1914–1923 гг.», как кажется, можно увидеть и понять, откуда М.М. Бахтин «взялся». В этой перспективе проект «первой философии», намеченный в его работе «К философии поступка» (1921/1922), рассматривается в контексте
«социальной онтологии» (М. Тойниссен) инициаторов «нового мышления» 1910–1920-х гг. В контексте онтологического поворота во время и после Первой мировой войны русский мыслитель выделяется индивидуальным и национальным своеобразием, но так, что он – «единственный среди многих» (С.С. Аверинцев) своих современников, поставивших под вопрос «роковой теоретизм» Нового времени.
Полный текст
1
В истории русской мысли Михаил Михайлович Бахтин (1895–1975) занимает несколько странное, как бы не вполне уместное место. Научно-критическая литература о нем обширна и продолжает расти у нас и за рубежом, но не вполне проясненным остается старый вопрос: «Откуда взялся Бахтин?» Этот мыслитель и ученый явно не укладывается ни в дореволюционную, ни в советскую философию, ни в идеалистическую, ни в материалистическую традицию, ни в религиозное, ни в атеистическое мировоззрение. А с западноевропейской философией у него совсем особые отношения. Бахтин критически относился как раз к тем своим предшественникам и старшим современникам, под определяющим влиянием которых он сложился как философ (И. Кант, Г. Коген и неокантианство, Э. Гуссерль). И, наоборот, мыслители, скорее чуждые ему (как К. Маркс или З. Фрейд), вызывали у него живой полемический интерес как диалогические оппоненты. Европейский экзистенциализм Бахтин, похоже, не очень ценил, несмотря на то (или, скорее, потому), что в юности воспринял экзистенциальные импульсы от Ф.М. Достоевского и С. Кьеркегора; что не мешало ему понимать философию как строгую науку, дистанцируясь, в частности, от того, что он называл «свободным русским мыслительством», «нашими мыслителями самодумами» и т. п. Чем больше мы узнаем о Бахтине, тем труднее понять, откуда он «взялся».
Проблемы рецепции его наследия заметно возросли за последние десятилетия в связи с актуальными вопросами междисциплинарности и межкультурной коммуникации. Не секрет, что для многих философов Бахтин – слишком «литературовед» и «филолог», а для литературоведов, филологов, лингвистов, историков – слишком «философ»; для западных читателей и коллег он – чересчур «русский», а для российских – чересчур «европеец». Этот мыслитель, как подметил в свое время Аверинцев, не может быть ни новомодным (каким он был в 1980–1990-е гг.), ни старомодным (каким многим кажется теперь); в его исследованиях заявляет о себе «самостояние и самоуважение ума, который знает, что одно дело – учиться у своего времени и совсем иное – щепкой кружиться по водоворотам на поверхности своего времени» [1, с. 94]. В этом проницательном наблюдении из эпохи «застоя» молчанием обойден ключевой вопрос – о «своем времени». И это не случайно.
Бахтин выпал из собственной биографии («конечно, не с детства, не с юности, а с Октябрьской революции», как он скажет в конце жизни о людях своей культурной формации [2, с. 219]); а главное, для последующих поколений он выпал из биографии своей мысли. У него мы не найдем отчета о пройденном пути наподобие философских автобиографий К. Ясперса или Х.-Г. Гадамера, Н.А. Бердяева или Ф.А. Степуна. Где же тогда мера современности Бахтина как мыслителя и ученого ХХ в.? Каков, по-бахтински, «диалогизующий фон» того европейского и российского «события бытия», на котором этот мыслитель мог бы быть узнан и понят также и в своем индивидуальном и национальном отличии от фона – узнан и понят, по словам того же Аверинцева, как единственный среди многих? [1, c. 93]
В предлагаемой статье сделана попытка подойти к ответу на этот вопрос, опираясь на понятие «смена парадигм» (a paradigm shift), примененное здесь не к эпистемологии так называемых опытных наук (как в книге Т. Куна о научных революциях), а к гуманитарной эпистемологии, то есть к философии и наукам общественно-исторического опыта мира жизни. Тезис, который я постараюсь обосновать в этой работе, можно формулировать так: Бахтин был активным русским участником двух больших научно-гуманитарных революций своего времени, своей современности, происходивших одновременно в философии исторического опыта и в науках исторического опыта, начиная со «столетнего десятилетия» 1914–1923 гг., когда, как сказано в прологе романа Т. Манна «Волшебная гора» (1924), «началось столь многое, что потом оно уже и не переставало начинаться» [13, с. 7]. Началась, среди прочего, и новая европейская «революция в способе мышления».
На диалогизующем фоне этой революции или «смены парадигм» мы проанализируем среди множества других только один – онтологический поворот в философии, осуществленный Бахтиным в начале 1920-х гг., поворот, который по известным объективным причинам не мог быть воспринят своевременно (в свое время), но происходил в некоторой общей ситуации и атмосфере «невиданных перемен» в России и на Западе в первой трети ХХ в. Осуществленная тогда молодым Бахтиным в Невеле и Витебске трансформация философии, возможно, со временем позволит связать Бахтина-философа с последующими его исследованиями, ставшими известными в 1960–1980-е гг.
2
«…Как давно надо было об этом подумать, как давно в самом общем виде это надо было зафиксировать, что помимо смены парадигм в естественных науках <…>, несомненно, происходила смена гуманитарной парадигмы в последней трети XIX и в первой половине (да и по сей день) ХХ века», – говорил Э.Ю. Соловьев в одном из своих выступлений 1990-х гг. [21, с. 189]. Но что такое «смена гуманитарной парадигмы» вообще и в «столетнее десятилетие» 1914–1923 гг., в частности и в особенности?
Если история естествознания ориентируется и опирается, прежде всего, на авторитеты первооткрывателей новых парадигм, то в истории философии и гуманитарных наук приоритет в еще большой степени принадлежит не авторам, но историческому времени как таковому, этому «автору авторов», по выражению Ф. Бэкона. В философии и науках общественно-исторического опыта мира жизни (чаще называемых гуманитарными) мышление и сознание более непосредственно связаны с социальными условиями, умонастроениями, тенденциями своего времени, подчас анонимными для самих современников, но тем более действенными. Этими дотеоретическими, «инонаучными» предпосылками и источниками мотивируются и предвосхищаются культурные эпохи, индивидуальные открытия, философские и научные направления и «смены парадигм». Бахтин в книге о Рабле и народной культуре Средневековья и Ренессанса (1940, 1965) приводит важную для него мысль выдающегося немецкого историка гуманитарной культуры Конрада Бурдаха (1859–1936) из его книги «Реформация, Ренессанс, Гуманизм» (1918; рус. перевод 2005): «Гуманизм и Ренессанс это не продукты познания (Produkte des Wissens). Они возникают не потому, что ученые обнаруживают утраченные памятники античной литературы и искусства и стремятся их снова вернуть к жизни. Гуманизм и Ренессанс родились из страстного и безграничного ожидания и стремления стареющей эпохи, душа которой, потрясенная в самой глубине своей, жаждала новой юности [6, с. 68].
В этом утверждении, как кажется, зафиксированы две «инонаучные» предпосылки всякой смены парадигм в истории, в особенности – гуманитарного мышления. Во-первых, парадигматические сдвиги не сводятся к «продуктам познания», воспринимаемым задним числом как завершенные, отделившиеся от непосредственного познавательного процесса, связанного с конкретно-историческим контекстом переживаемой действительности в ее целом. Во-вторых, никакая культура, сколь бы великой она ни была, не может избежать «старения» и «конца», т. е. относительной исчерпанности перед лицом нового исторического опыта; в нашем примере ответом на новый опыт стали Гуманизм и Ренессанс, мотивировавшие, среди прочего, великие научные открытия того времени. Но если Гуманизм и Ренессанс определили развитие последующих четырех веков европейской истории, то «столетнее десятилетие» 1914–1923 гг. подстегнуло и развернуло давно подготовлявшуюся фронтальную и радикальную критику теперь уже самого Нового времени и сложившихся на его почве «парадигм».
Т. Кун в своей знаменитой книге говорит об «идеологии науки как профессии», когда ученые «подвержены искушению переписать ретроспективно историю» в силу «настойчивой тенденции представить историю науки в линейном и кумулятивном виде» [11, с. 182]. В философии и науках исторического опыта это «искушение» еще сильнее; в Новое время оно сделалось сознательно-бессознательной методической установкой, которую выдающийся отечественный историк гуманитарной мысли А.В. Михайлов назвал «модерноцентризмом», для которого «характерно мыслить современное состояние науки, во-первых, как вершину развития этой науки, а во-вторых, вследствие этого, – как меру всякого научного материала [17, с. 228]. Научно-гуманитарная революция 1910–1920-х гг., в которой активно, но, так сказать, неофициально участвовал Бахтин, поставила «модерноцентризм» под большой вопрос на исходе Нового времени в прошлом столетии. Это, вероятно, среди прочего, способствовало, начиная с 1960-х гг. «возвращению» Бахтина в актуальный контекст и горизонт современности.
На протяжении Нового и Новейшего времени (XVII–XX вв.) «смена парадигм» в философии исторического опыта происходила, можно сказать, перманентно, обычно в течение одного десятилетия. Таким недолгим и «ненормальным» (в смысле Т. Куна) периодом было последнее десятилетие XVIII в., начавшееся (вслед за Французской революцией) Кантовой «Критикой способности суждения» (1790), стимулировавшей умственное движение, которое «не переставало начинаться» в ходе развития немецкого идеализма и романтизма вплоть до смерти Гегеля, Гете, Шлейермахера и Гумбольдта в 1830- е гг. Следующая «смена парадигм» последовала уже через несколько лет и была сознательным разрывом с «классическим» наследием и предвосхищением последующих поворотов.
Речь идет о «революционном переломе в мышлении XIX века», как гласит подзаголовок фундаментального труда ученика Хайдеггера Карла Лëвита (1897–1973) «От Гегеля к Ницше» (1941/2002). Действительно, в десятилетие 1838–1848 гг. Маркс и Кьеркегор, не знавшие друг о друге и чуждые один другому, одновременно (среди многих других мыслителей) продолжили дело позднего Шеллинга – критику спекулятивно- идеалистической философии Гегеля как кульминации «негативной» философии Нового времени (от Декарта до раннего Шеллинга). Этот новый поворот, казалось, сошедший на нет после революции 1848 г., был по-новому оценен и возобновлен уже в XX в.: закрепившийся во второй половине прошлого столетия термин «постидеалистическое мышление» (nachidealistisches Denken) подчеркивает преемственную связь этой смены парадигм со следующей, еще более радикальной революцией в способе мышления – той, в ходе которой русский мыслитель Бахтин и стал «единственным среди многих». Кстати сказать, Бахтин с юности знал не только Кьеркегора [см.: 3, с. 610–612], но и Шеллинга (в частности, «Философию откровения»), которого проштудировал, по его же словам, «вдоль и поперек» [2, с. 271].
3
Отличительная особенность гуманитарно-философской революции 1910–1920-х гг. – двойственность, с которой она переживалась ее инициаторами и участниками на Западе и в России. Объективным было, с одной стороны, острое сознание кризиса научного мышления и «жизни» вообще; с другой стороны – не менее острое ощущение новых, поистине революционных возможностей, открывающихся как благодаря кризису, так и вопреки ему. Феноменология Гуссерля, например, открыла научно-философскому исследованию, можно сказать, новую предметность; но это обновление и расширение предметности у самого создателя феноменологии сопровождалось все возобновлявшимися попытками преодолеть кризис самой идеи науки, ставшей сомнительной перед лицом современного исторического опыта. «Я не говорю, что философия – несовершенная наука, я говорю просто, что она еще вовсе не наука, что в качестве науки она еще не начиналась» [10, с. 130]. Этот пассаж из программной статьи Гуссерля «Философия как строгая наука» (1911), опубликованной в первом номере русско-немецкого журнала «Логос», демонстрирует разрыв между идеалом научной философии и кризисом этого идеала. Еще резче эту двойственность выразил молодой М. Хайдеггер в письме к К. Ясперсу от 27.06 1922 г., здесь она оборачивается альтернативой: быть или не быть современной философии и философу: «Либо мы всерьез относимся к философии и ее возможностям как принципиальному научному исследованию, либо мы как люди науки впадаем в глубочайшее заблуждение, продолжая барахтаться в произвольно выхваченных понятиях и наполовину проясненных тенденциях и работая только на потребу» [25, с. 74].
В своих «Кассельских докладах» (1925) Хайдеггер ставит в историко- систематическую связь новую революцию в способе мышления и кризис как позитивное условие преобразования философии: «Все науки и все группы наук пребывают в великой революции, а именно в революции продуктивного свойства, которая открывает новые вопросы, новые возможности, новые горизонты. <…> Кризис берет свое начало из довоенного времени. Так что он вырос из непрерывной преемственности самой науки, и это залог серьезности и надежности совершающихся в ней переворотов» [24, с. 139].
Гораздо драматичнее связь «ненормальной науки» с кризисом переживалась и понималась в те же годы в русской философии, которая в «столетнее десятилетие» 1914–1923 гг., можно сказать, впервые в своей истории встала «с веком наравне». С несвойственной этому автору ни раньше, ни позже остротой выразил переломную ситуацию Г.Г. Шпет в первом выпуске своих «Эстетических фрагментов»: «Мы – первые низверженные – возносимся выше других, быть может, девятым и последним валом европейско-всемирной истории. Ныне мы преображаемся, чтобы начать, наконец – надо верить! – свой европейский Ренессанс. <…> До сих пор мы только перенимали» [26, с. 184].
Употребляя терминологию Т. Куна, можно сказать, что всякая настоящая «смена парадигм», вырывающая глубокий водораздел в истории мышления, – это «ненормальная наука», открытия которой постепенно проясняет и сглаживает «нормальная наука» в более стабильные времена, не всегда доходя до оснований происшедших переворотов.
Не случайно цитировавшийся первый выпуск своих «Эстетических фрагментов» Шпет пометил датой: «22 января 1922 г.»: в ситуации радикального кризиса культуры и самой философии «недостаточно понятным, иностранным стал сам разум» [26, с. 185]. Но именно теперь, в эти месяцы и дни непредсказуемого будущего, историческое и философское сознание России обнаруживает неслыханный потенциал «преображения», возможности по- настоящему оригинальной русской мысли, тогда как в прежние времена «мы только перенимали».
Выдающийся мыслитель русской эмиграции Г.П. Федотов (историк-медиевист по специальности) в этапной для русской духовно-идеологической культуры статье «Трагедия интеллигенции» (1926), назвал происшедшее в России в 1917 г. «счастливой позицией», в смысле открывшихся после краха дореволюционного миропорядка возможностей общественно-исторического (гуманитарного) познания: «Мы, современники революции, имеем огромное, иногда печальное преимущество – видеть дальше и зорче отцов, которые жили под кровлей старого, слишком уютного дома <…>. Наивным будет отныне все, что писал о России XIX век, и наша история лежит перед нами, как целина, ждущая плуга. Что ни тема, то непочатые золотые россыпи» [22, с. 66].
Федотов фиксирует здесь, в сущности, конец так называемого метафизического барства в истории русской культуры вплоть до эпохи символизма – культуры элит, «наивной» даже в ее гениальных «отцах», но при этом открывающей современникам революции прежде не узнанные или не понятые «непочатые золотые россыпи». В западноевропейском мире жизни и мысли тех лет выход за пределы «девятнадцатого века» переживался и толковался тоже как продуктивное, даже праздничное освобождение от традиционного «буржуазного» способа мыслить и быть.
4
Итак, смена «гуманитарной парадигмы» предполагает такую ситуацию в мире и такой уровень исторического сознания, когда, как сказано у русского классика, становится «видимо во все концы света». Показателен в этом отношении тот факт, что инициаторы революции в способе мышления 1910–1920-х гг. – Ф. Розенцвейг, О. Розеншток-Хюсси, М. Хайдеггер, М. Бубер, М.М. Бахтин – начинали с грандиозных проектов трансформации европейской философии от Платона и Аристотеля до неокантианства. История философии оказывалась при этом отнюдь не менее великой; но в ней прежде не было того вопроса и запроса на действительность бытия, о которой заговорил в полемике с Гегелем уже поздний Шеллинг, и которая в XX в. обернулась по-новому исконной проблемой prima philosophia. В упомянутой переписке Хайдеггер писал Ясперсу (27 июня 1922 г.): «Старую онтологию (и вытекающие из нее категориальные структуры) необходимо создать совершенно заново.
<…> Требуется критика всей прежней онтологии, самых ее корней в греческой философии, особенно Аристотеля, чья онтология (хотя само это понятие не годится) у Канта и Гегеля жива ничуть не меньше, чем у какого-нибудь средневекового схоласта» [25, c. 73].
В более стабильные времена «нормальная наука» проясняет, сглаживает, корректирует результаты научных революций, но, как правило, не доходит до незавершенных оснований происшедших переворотов, более или менее довольствуясь «продуктами познания».
5
Читая программный философский текст Бахтина «К философии поступка» (1921/22), трудно избежать сопоставлений с «Бытием и временем» Хайдеггера (1927), или с «Я и Ты» Бубера (1923), или со «Звездой спасения» Розенцвейга (1921), или со «Словом и духовными реальностями» Фердинанда Эбнера (1922); но не потому, что Бахтин «читал» этих своих современников и не потому, что его современники «влияли» друг на друга, а потому что «автор авторов» (история) связала их общим проблемным узлом, общими источниками, общей ситуацией исторического поворота и общим полемическим адресатом – критикой того, что в обоих изданиях книги Бахтина о Достоевском (1929, 1963) называется «всей идеологической культурой нового времени» [4, с. 59; 7, с. 91].
Бубер в поздней статье «К истории диалогического принципа» (1962) на собственном примере прокомментировал событийно-историческую взаимосвязь между инициаторами новой революции в способе мышления в «столетнее десятилетие». Во время Первой мировой войны Бубер, по его словам, ничего не читал, за исключением «Размышления о методе» Декарта (!); потом, прервав «аскезу на чтение», он наткнулся на «Слово и духовные реальности» австрийского католика Фердинанда Эбнера (1884–1931), поначалу неприятно поразившую автора «Я и Ты» сходством с его собственными мыслями. Сорок лет спустя Бубер так объяснил это сходство: «Его (Эбнера. – В.М.) книга показала мне – как никакая другая, когда-либо потом прочитанная мною, причем близость мыслей местами была какой- то даже жутковатой, – что в такое время, как наше люди разного склада и традиций оказались в поисках общего потрясенного достояния» [8, c. 513].
Бубер, подобно другим инициаторам «нового мышления», как говорили в Германии 1920-х гг. [9, с. 87], создавал новую онтологию и, соответственно, новый язык описания «бытия», как он его понимал. Сравнивая свое довоенное произведение «Даниэль» (1913) с послевоенным «Я и Ты» (1923), Бубер в цитируемой статье отмечает симптоматичное отличие: «…во втором сочинении основанием служит уже не сфера субъективности (Sphäre der Subjektivität), а сфера между существами (Sphäre zwischen den Wesen). Но ведь именно в этом и состояло решающее изменение, происшедшее во время Первой мировой войны с целым рядом мыслителей. Изменение это по своему смыслу и по сферам своего проявления было самым разнообразным; но фундаментальная общность (Gemeinsamkeit) человеческой ситуации, из которой произошло это вобравшее в себя всë и вся изменение, не подлежит никакому сомнению» [8, c. 513].
«Фундаментальная общность человеческой ситуации» открылась всем мыслителям смены гуманитарной парадигмы, по словам того же Бубера, «в исторический час Везувия с его опытом Первой мировой войны»; и это вызвало «настоятельную потребность средствами мышления воздать должное существующему экзистенциально (dem Existieren) – потребность, захватившая также и систематическую философию» [8, c. 509].
Таков событийный контекст и горизонт, который позволяет увидеть каждого из мыслителей новой революции в способе мышления – в нашем случае Бахтина – одновременно в их общности и в их единственности.
6
Эпиграф к «Критике чистого разума», взятый Кантом из предисловия к «Новому органону» Бэкона, гласит: «О самих себе мы молчим; но для предмета, о котором идет речь, мы хотим, чтобы люди считали его не мнением, но делом». Философия Нового времени в принципе искала истину по ту сторону «мнения» и считала своим «делом» возможность общезначимого суждения как научного. Начиная с последней четверти XIX в. и на протяжении первой половины (да и всего) XX в. фундаментальная установка, в определенном смысле, перевернулась: в философии жизни, в диалогизме, в экзистенциализме, персонализме и т. п. о самих себе мы больше не молчим. Новая «первая философия» включила в себя традиционное понятие личности, но под другими именами, а главное – в новом отношении к бытию: мое «я» стало не изолированным «мнением», но «делом» философии в качестве по-своему активного участника того, что Бахтин в своем философском проекте называет «событием бытия», «бытием-событием», «причастностью бытию», «моим не-alibi в бытии» и т. п.
Из сказанного понятно, что бахтинская концепция, при всей индивидуальной и национальной самобытности своей, – только один из многих проектов так называемого онтологического поворота 1910–1920-х гг. Выдающийся немецкий философ Микаэль Тойниссен (1933–2015) в своем впечатляющем исследовании «Другой» [27] назвал фундаментальную переориентацию в первой половине прошлого столетия исконной prima philosophia – «социальной онтологией», имея в виду две линии развития «первой философии» в ХХ в.: одну (Гуссерль, Хайдеггер, Сартр) он назвал «трансцендентальной», вторую (Бубер, Розенцвейг, Розеншток-Хюсси, Эбнер, Романо Гвардини, Габриель Марсель, многие другие) – «диалогической».
В дальнейшем мы попытаемся показать как бы отсутствующее присутствие русского философа в событии онтологического поворота на Западе, в ситуации смены гуманитарной парадигмы в философии.
7.1
В исходном пункте бахтинской трансформации философии – кризис, который определяется как «фундаментальный раскол» [3, c. 7] между культурой и бытием. Раскол произошел между конкретно-историческим единственным «актом-поступком» мыслящего, творящего, поступающего – и содержанием этого акта как объективированного и общезначимого, отпавшего от акта-поступка в качестве продукта той или иной «содержательно-смысловой области культуры» [3, c. 7]. Единственность акта-поступка – в жизни, в науке, в искусстве – объективируясь, утрачивает свою индивидуальность, свою историческую фактичность и становится некоторым отвлеченно-обобщенным, культурно общезначимым продуктом. В результате один единственный мир раскалывается на два мира: 1) «мир, в котором мы творим, познаем, созерцаем, живем и умираем» и 2) «мир, в котором объективируется акт нашей деятельности» [3, c. 7]. Другими словами, «конкретная историчность» [3, c. 8] акта-поступка и того бытия, в котором поступок мотивируется и свершается, остается как бы за бортом культурной общезначимости поступка.
7.2
Согласно Бахтину, «коперниканское деяние Канта» – трансцендентальная активность разума была попыткой связать индивидуальный субъект с его объективированной общезначимостью, но «для этой трансцендентальной активности пришлось измыслить чисто теоретический, исторически не-действительный субъект, сознание вообще, научное сознание, гносеологический субъект» [3, c. 11]. Этот теоретически автономный фантом, оторвавшийся от акта-поступка, тем не менее, всякий раз должен «воплощаться», т. е. приобщаться «исторически конкретному бытию» – не трансцендентальному, но реальному. «… Мир, как предмет теоретического познания, стремится выдать себя за весь мир в его целом <…>, т. е. теоретическое познание пытается построить первую философию (prima philosophia)» [3, c. 11–12].
Такого рода подмена особенно заметна и опасна в сфере техники; Бахтин предвосхищает здесь многочисленные коррективы последующих десятилетий относительно идеала так называемой научно-технической революции: «Страшно все техническое, оторванное от единственного единства и отпущенное на волю имманентному закону своего развития» [3, c. 11].
7.3
«Принципиальный раскол» между исторической конкретностью акта-поступка и его «теоретической транскрипцией» [3, c. 28] Бахтин считает преобладающей тенденцией отнюдь не всей истории философии; это «специфическая особенность Нового времени, можно сказать, только 19 и 20 веков», которая заключается в вытеснении из научной философии того, что Бахтин называет участным мышлением: «Участное мышление преобладает во всех великих системах философии, осознанно и отчетливо (особенно в Средние века) или бессознательно и маскировано (в системах 19 и 20 веков)» [3, c. 12].
Бессознательно и маскировано – это значит: конкретно переживаемая исторически- событийная действительность, в которой мы воплощаемся, живем и умираем, – на почве Нового времени получает как бы общепонятную смысловую значимость и легитимность, выдавая себя за научно-теоретическую истину по принципу «как если бы меня не было» [3, c. 13]. Моя историческая фактичность и активность – «и я есмь» [3, c. 12, 31] – отпадает в продукт поступка, его значимость определяется всецело теоретически общезначимым суждением.
То, что Хайдеггер в «Бытии и времени» (1927) называет «забвением бытия», Бахтин связывает с роковым теоретизмом Нового времени – «отвлечением от себя единственного» [3, c. 28], роковым потому и постольку, поскольку «историческая фактичность» (события, поступка, самой мысли как поступка) утрачивает в результате «теоретической транскрипции» элемент личной инициативы поступка. Бахтин называет этот элемент ответственностью. Выдвижение на передний план (с опорой на Кьеркегора) «экзистенциального» мышления – это общий признак европейских участников «поворота к бытию», начиная, по крайней мере, с книги Ясперса «Психология мировоззрений» (1919) [подробнее см.: 16].
7.4
Каким образом поворот к бытию сочетается с открытием «участного» или «экзистенциального» элемента в бытии-событии? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит принять во внимания две особенности бахтинского мышления. Во-первых, Бахтин никогда не употребляет местоимение первого лица единственного лица с большой буквы (das Ich), уже постольку порывая с традицией немецкого идеализма и романтизма. Во-вторых, и это главное, реальное я в бахтинской онтологии не конструирует мир, но воплощается и ориентируется в мире – и не где-то там вообще, а, употребляя термин Хайдеггера, «вот здесь» (Dasein, в переводе В.В. Бибихина – «присутствие»), т. е. в определенном социально- историческом мире. Ученик Хайдеггера Гадамер во второй половине ХХ в. углубит и закрепит этот принцип (кое в чем споря с учителем) в качестве продуктивной «конечности» (Endlichkeit) человеческого существования. Бахтин, как теперь известно, уже в 1930-е гг., опираясь на Канта, А.А. Ухтомского и теорию относительности, обозначил такое, скажем, «продуктивное заземление разума» термином хронотоп [5, с. 341].
Как и у других мыслителей гуманитарной революции в способе мышления 1910–1920-х гг., бахтинская «смена парадигм» знаменует поворот от утопических мечтаний и теоретических систем Нового времени, от метафизического барства «отцов» – к анализу повседневности. Этот анализ позволил открыть в бытии-событии, с одной стороны, его «экзистенциальный», с другой стороны, его «социальный» аспект. Двустороннее своеобразие социальной онтологии ХХ в. ярко и остро сумел охарактеризовать Х. Ортега-и-Гассет в книге «Восстание масс» (1930), подчеркнув «позитивный смысл, скрытый от глаз зрелищем торжествующих масс» и выдвинув смелый тезис: «Уже нет солистов – остался только хор» [19, с. 42, 50]. Акцент здесь – не на отрицании или умалении персональных «солистов»; Ортега фиксирует тот самый сдвиг в мышлении, происшедший во время и после Первой мировой войны, о котором писал Бубер в цитировавшейся выше статье: в онтологии гуманитарного мышления на место «сферы субъективности» встала «сфера между существами», междучеловеческое (das Zwischenmenschliche), как это еще называется в социальной онтологии Бубера. У Бахтина «участное мышление» участвует в бытии-событии между людьми (я – единственный среди многих других); в этом смысле мышление «ответственно».
7.5
При традиционном взгляде на истину может показаться, что проект Бахтина отрицает научность и объективность истины. В действительности речь идет о другом. Подобно западноевропейским мыслителям смены гуманитарной парадигмы их русский современник ставит под вопрос традиционное взаимоотношение между бытием и временем. Только на этом проблемном фоне можно понять поворот в «новом мышлении» 1920-х гг. к библейскому пониманию времени и «временности» (Zeitlichkeit), как это выразил, среди других, немецко-еврейский религиозный философ Франц Розенцвейг в знаменитом постулате – «принять время всерьез» (Ernstnehmen der Zeit). В статье «Новое мышление» (1925), написанной в порядке комментария к его главной книге «Звезда спасения» (1921), Розенцвейг писал: «Сущность ничего не знает о времени. <…> Что такое здравый рассудок – это понимает новое мышление, понимает и самое старое. Важно, что он не может познавать вне зависимости от времени, как бы ни гордилась до сих пор такой способностью философия <…>. Мышление отвергает время, хочет от него освободиться, хочет одним махом устроить тысячу связей; последнее, цель, для него становится первым. Говорение привязано ко времени, питается временем, не может и не хочет уйти с питательной почвы» [20, с. 414–418]. Если у Розенцвейга, у Хайдеггера и других инициаторов «нового мышления» последнее полемически резко противопоставляется «старому мышлению», то у Бахтина это противопоставление лишено внешней полемики; но суть дела от этого не меняется: «Значимость того или иного теоретического положения совершенно не зависит от того, познано оно кем-нибудь или не познано. Законы Ньютона были в себе значимы и до их открытия Ньютоном, и не это открытие впервые сделало их значимыми, но не было этих истин как значимых, приобщенных единственному бытию-событию моментов <…>. Грубо неправильно было бы представление, что эти вечные в себе истины существовали раньше, до их открытия Ньютоном, так, как Америка существовала до ее открытия Колумбом: вечность истины не может быть противопоставлена нашей временности <…>. Вневременная значимость всего теоретического мира истины целиком вмещается в действительную историчность бытия-события» [3, c. 14–15] («вмещается» как обогащающее теоретическую в себе значимость).
Сопоставим этот ход мысли в тексте «К философии поступка» с отрывком из написанной пятью-шестью годами позднее «Бытием и временем» Хайдеггера (параграф 44: «Способ бытия истины и предпосылка истины»): «Истина “имеется” лишь постольку и пока есть присутствие. Сущее лишь тогда открывается и лишь до тех пор разомкнуто, пока вообще присутствие есть. Законы Ньютона, правило о противоречии, всякая истина вообще истинны лишь пока есть присутствие <…>. Законы Ньютона были до него ни истинны, ни ложны <…>. Законы стали через Ньютона истинны, с ними сущее стало для присутствия доступно само по себе (курсив Хайдеггера. – В.М.) [23, с. 226–227].
Автор «Бытия и времени» утверждает здесь то же самое, что и Бахтин: истина законов Ньютона приобретает актуальную значимость не «в себе» (ибо в себе, как сказал бы Бахтин, истина «только есть, но ничего не значит»), а в поступке открытия-приобщения истины человеческому бытию («присутствию»), т. е., по Хайдеггеру, экзистенциально «разомкнутому» в конкретный бытийно-исторический мир с его контекстом.
Как отмечает Бахтин, обычное противопоставление вечной истины и нашей дурной временности – это случай «участного мышления». Такова, например, теоретическая концепция Платона, в основе которой – не теоретическая, но «участная» потребность «преодолеть свою данность ради заданности, выдержанная в покаянном тоне» [3, c. 15].
8
Предварительная экспликация понятий «поступок» и «участное мышление» позволяет Бахтину наметить систематическую критику основных тенденций современной ему философии. Эта критика ведется, так сказать, на обе стороны: против «рационализма» академической философии (неокантианство) и против «иррационалистического» протеста против рационализма («философия жизни»). Как бы промежуточное место в этой критике занимают «исторический материализм» и некоторые мистические течения и учения (теософия, антропософия и т. п.), примыкающие к нему не своим содержанием, но общим «участным» мотивом.
О характере полемики Бахтина с оппонентами точно писал Аверинцев: «…его полемика всегда направлена не на позитивный состав мысли оппонента, но на сумму его, оппонента, отрицаний, она отрицает только их» [1, с. 95]. Полемика Бахтина может показаться парадоксальной: лучшая теоретическая философия современности, на его взгляд, – неокантианство, которое сумело «наконец выработать совершенно научные методы»; но эти научные методы действенны и надежны лишь в границах специальных теоретических областей культуры. Поэтому академическая философия современности «не может претендовать быть первой философией, т. е. учением не о едином культурном творчестве, но о едином и единственном бытии-событии. Такой первой философии нет и как бы забыты пути ее создания» [3, c. 22]. Отсюда внутренний крах неокантианства в начале 1920-х гг., неоднократно описанный [см., например: 9, с. 100 – 101]. Дело собственно не в неокантианстве, а в рационалистическом предрассудке, который философия Нового времени отождествляла с рационализмом вообще: «Вся современная философия вышла из рационализма и насквозь проникнута предрассудком рационализма, даже там, где старается сознательно освободиться от него, – что только логическое ясно и рационально, между тем как оно стихийно и темно вне ответственного сознания, как и всякое в себе бытие» [3, c. 30].
Бахтин, таким образом, отрицает не рационализм, а только то, что традиционный рационализм отрицает: «Поступок более чем рационален, – он ответственен. Рациональность только момент ответственности» [3, c. 30]. Даже абстрактная самозначимость, воплощаясь и утверждаясь в конкретном, исторически сложившемся индивидуальном высказывании,«сияет заëмным светом нашей ответственности» [3, c. 30].
Философия жизни, которая как раз сознательно старается освободиться от рационалистического предрассудка, сама им заражена. Ведь она тоже пытается преодолеть или игнорировать бытийную проблематику поступка, только не логически, а эстетически, путем так называемого вчувствования (Einfühlung), или «вживания». В отличие от акта эстетического вúдения, вживание в эстетический объект стремится к отождествлению с объектом, как бы слиянию с ним, что приводило бы к «отпадению акта в его продукт» [3, c. 20], если бы такое слияние было фактически возможно.
Итак, если рационализм довольствуется продуктами культуры, подменяя ими реальную причастность бытию, то иррационализм и эстетизм тяготеют к «одержанию бытием», к «односторонней причастности», в пределе к «абсурду современного дионисийства» (как у Ницше и в популярном ницшеанстве); в этом случае «утвержденное бытие завладевает утвердившим, вживание в действительное участное бытие приводит к потере себя в нем (нельзя быть самозванцем), к отказу от своей долженствующей единственности» [3, c. 46].
Историко-систематическая критика теории «вчувствования», которая была фронтальной в первой трети ХХ в. в теории познания, эстетике, психологии и т. п. [см.: 12, с. 213–236; 14, с. 73–92; 28] развернута Бахтиным в работе «Автор и герой в эстетической деятельности» (1922–1924). Но уже в тексте «К философии поступка», онтологическая функция отношения я – другой приобретает решающее значение при определении нового, не «теоретизированного» типа конкретного единства бытия-события, к чему мы еще вернемся.
Наконец, исторический материализм, по мысли Бахтина, компенсирует главный недостаток рационализма одним своим главным достоинством. При всех своих «методических несообразностях», «недостатках и недочетах», исторический материализм привлекает современное участное мышление тем, что «пытается строить свой мир так, чтобы дать в нем место определенному, конкретно-исторически действительному поступку, в его мире можно ориентироваться строящемуся и поступающему сознанию» [3, c. 22]. В этом смысле исторический материализм «совершает свой выход из самого отвлеченного теоретического мира в живой мир ответственного исторического свершения-поступка <…> в этом его сила, причина его успеха» [3, c. 22]. И это несмотря на то, что, подобно антропософии, теософии и т. п. увлечениям в России и на Западе, исторический материализм страдает распространенным пороком, от которого как раз предостерегает кантианская традиция, – «методическим неразличением данного и заданного, бытия и долженствования» [3, c. 22].
Позитивная программа, оправдывающая всю эту критику современной философии и современной общественности, предварительно формулируется так: «Нужно приобщить теорию не теоретически построенной и помысленной жизни, а действительно свершающемуся нравственному событию-бытию – практическому разуму, и это ответственно делается каждым познающим, поскольку он принимает ответственность за каждый целокупный акт своего познания» [3, c.16].
9
В заключение вкратце охарактеризуем «данное и заданное» в бахтинском проекте социальной онтологии, которую Бахтин излагал друзьям еще летом 1919 г. в Невеле и которую сам называл «моей нравственной философией» [18; 2, c. 269]. Данность здесь – общеевропейский кризис, раскол между бытием и сознанием, бытием и культурой; заданное – это задача пересоздания «первой философии» – по ту сторону «всей идеологической культуры нового времени».
Современный кризис в основе своей есть кризис современного поступка. Образовалась бездна между мотивом поступка и его продуктом. Но вследствие этого завял и продукт, оторванный от онтологических корней. Деньги могут стать мотивом поступка, построяющего нравственную систему <…>. Мы вызвали призрак объективной культуры, который не умеем заклясть» [3, c. 50, 51].
Поступок, как мы знаем, движется в бытии-событии мира; но где мера самого этого бытия-события и самого поступка в нем, если отказаться от «теоретизированного» описания и понимания того и другого?
Отвечая на этот вопрос, Бахтин использует традиционное, почти забытое к тому времени в философии понятие архитектоника, придавая ему существенно иное значение, чем Кант, который в предпоследнем разделе «Критики чистого разума» использовал его в смысле разумного расположения частей в научно-теоретической системе целого. «Смену парадигм», которая здесь происходит посредством введения Бахтиным понятия архитектоники, можно определить как принцип радикальной конкретизации. Вот как он поясняет эту свою новацию: «Высший архитектонический принцип действительного мира поступка есть конкретное, архитектонически-значимое противопоставление я и другого. Два принципиально различных, но соотнесенных между собой ценностных центра знает жизнь: себя и другого <…>. Я единственный из себя исхожу, а всех других нахожу – в этом глубокая онтологически-событийная разнозначность» [3, c. 67].
«Мир, в котором ориентируется поступок на основе своей единственной причастности бытию – таков предмет нравственной философии», – пишет Бахтин; но поступок ориентируется в мире перед лицом не одного другого, но многих конкретных других, индивидуально неповторимых, но связанных между собой событийно: «не в смысле общих понятий, или законов, а в смысле общих моментов их конкретных архитектоник <…>. Эти моменты: я-для-себя, другой-для-меня, я-для-другого; все ценности действительной жизни и культуры расположены вокруг этих основных архитектонических точек действительного мира поступка: научные ценности, эстетические, политические (включая и этические и социальные) и, наконец, религиозные» [3, c. 49].
Бахтин, таким образом, намечает задачу своего междисциплинарного труда, который в научной литературе иногда называют «архитектоникой ответственности» (М. Холквист) и который сам Бахтин называет просто «исследованием» (в духе традиции, культивировавшейся Гуссерлем и его последователями): «Первая часть нашего исследования будет посвящена рассмотрению именно основных моментов архитектоники действительного мира, не мыслимого, а переживаемого. Следующая будет посвящена эстетической деятельности, как поступку, не изнутри ее продукта, а с точки зрения автора, как ответственно причастного жизненной <?> деятельности – этике художественного творчества. Третий – этике политики и последний – религии» [3, c. 50].
Из всего этого замысла помимо текста «К философии поступка» до нас дошел (да и то не полностью) трактат «Автор и герой в эстетической деятельности» (1923/24), в котором «этика художественного творчества» анализируется, как сегодня сказали бы, в междисциплинарном разрезе, на границах различных областей культуры и жанров «поступка». Трактат «Автор и герой…», обрывающийся на самом интересном месте и впервые напечатанный в конце 1970-х гг., методически, если не ошибаюсь, не имеет аналогов ни у нас, ни за рубежом и нуждается сегодня, как представляется, в самостоятельном рассмотрении под углом зрения научно-гуманитарной революции в способе мышления, как и онтологический поворот 1910–1920-х гг., предварительно исследованный в данной статье.
Об авторах
Виталий Львович Махлин
Институт научной информации по общественным наукам Российской Академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: vitmahlin@mail.ru
доктор философских наук, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Отдела литературоведения
Россия, МоскваСписок литературы
- Аверинцев С. Личность и талант ученого (1976) // М.М. Бахтин: Антология критики. РОССПЭН, 2010. С. 93–101.
- Бахтин М.М. Беседы с В.Д. Дувакиным. М.: Согласие, 2002. 400 с.
- Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 1. М.: Языки славянской культуры, 2003. 955 с.
- Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 2. М.: Русские словари, 2000. 800 с.
- Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 3. М.: Языки славянской культуры, 2012. 800 с.
- Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 4(2): М.: Языки славянских культур, 2010. 752 с.
- Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 6. М.: Языки славянской культуры, 2002. 799 с.
- Бубер М. К истории диалогического принципа // Антология еврейской философии Нового и Новейшего времени (источники и комментарии) / ред., сост. И. Дворкин. М.-Иерусалим: Библиотека М. Гринберга, 2022. С. 507–521.
- Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного / пер. с нем.; послесл. В.С. Малахова; коммент. В.С. Малахова, В.В. Бибихина. М.: Искусство, 1991. 366 с.
- Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск: Сагуна, 1994. 358 с.
- Кун Т. Структура научных революций / пер. с англ. И.З. Налетова. М.: АСТ, 2009. 310 с.
- Ляпунов В. Несколько непритязательных рекомендаций для читающих Бахтина // М.М. Бахтин / под ред. В.Л. Махлина. М.: РОССПЭН, 2010. С. 313–332.
- Манн Т. Волшебная гора: роман / пер. с нем. В. Станевич // Т. Манн. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 3. М.: Гослитиздат, 1959. 500 с.
- Махлин В.Л. Большое время: Подступы к мышлению М.М. Бахтина. Siedlce: Uniw. Przyrodniczo- humanistyczny w Siedlcach, 2015. 175 s. – (Opuscula Slavica sedlcensia; T. 8).
- Махлин В.Л. Единственный среди многих: М.М. Бахтин и смена парадигм в гуманитарном познании // Вопросы философии. 2023. № 12. С. 169–179.
- Махлин В.Л. Экзистенциализм до экзистенциализма: Рецензия М. Хайдеггера на «Психологию мировоззрений» К. Ясперса // Научное рецензирование в гуманитарных дисциплинах / под ред. Н. Долгоруковой и А. Плешкова. М.: ВШЭ, 2020. С. 141–159.
- Михайлов А.В. Вильгельм Дильтей и его школа // А.В. Михайлов. Избранное: Историческая поэтика и герменевтика. СПб., 2006. С. 225–320.
- Николаев Н.И. М.М. Бахтин в Невеле летом 1919 г. // Невельский сборник. Вып. 1 / под ред. Л.М. Максимовской. СПб., 1996. С. 96–101.
- Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Х. Ортега-и-Гассет. Дегуманизация искусства. М., 1991. С. 40–228.
- Розенцвейг Ф. Новое мышление. Некоторые примечания к «Звезде спасения» //Антология еврейской философии Нового и Новейшего времени. М.–Иерусалим, 2022. С. 404–430.
- Соловьев Э.Ю. Выступление на защите по М. Бахтину // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1998. № 2. С. 186–191.
- Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции (1926) // Г.П. Федотов Судьба и грехи России: в 2 т. Т. 1. СПб., 1991. С. 66–101.
- Хайдеггер М. Бытие и время / пер. с нем. В. В. Бибихина. М.: Ad Marginem, 1997. XI, 451 с.
- Хайдеггер М. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба за историческое мировоззрение в наши дни // Г. Шпет; М. Хайдеггер. Два текста о Вильгельме Дильтее М.: ГНОЗИС, 1995. С. 137–183.
- Хайдеггер М., Ясперс К. Переписка 1920–1963 / пер. с нем. И. Михайлова. М.: Ad Marginem, 2001. – 416 с.
- Шпет Г.Г. Эстетические фрагменты. I // Г.Г. Шпет. Искусство как вид знания: Избранные труды по философии культуры / отв. ред.-сост. Т.Г. Щедрина. М., 2007. С. 173–207.
- Theunissen M. Der Andere: Studien zur Sozialontologie der Gegenwart. Berlin: Walter de Gruyter, 1965. 638 р.
- Wyman A. The gift of active empathy: Scheler, Bakhtin, and Dostoevsky. Evanston, IL.: Northwestern univ. press. 2016. XIV + 323 p.