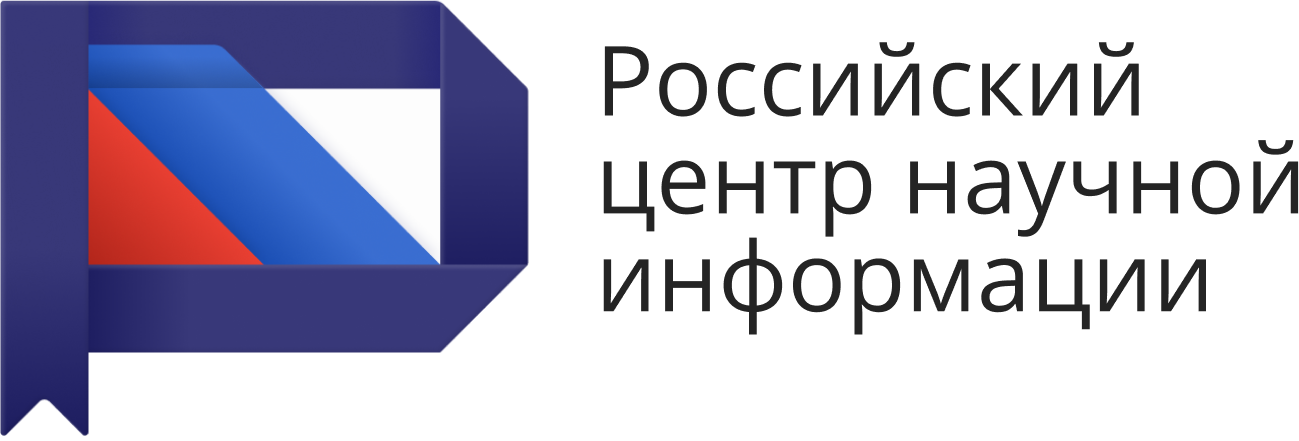Анкета «Бахтинского вестника» к 125-летию М.М. Бахтина
- Шығарылым: Том 2, № 2 (2020)
- Беттер: 8-51
- Бөлім: Статьи
- ##submission.dateSubmitted##: 26.09.2024
- ##submission.dateAccepted##: 26.09.2024
- ##submission.datePublished##: 15.04.2020
- URL: https://journals.rcsi.science/2658-5480/article/view/264646
- ID: 264646
Дәйексөз келтіру
Толық мәтін
Толық мәтін
Продолжая традицию журнала «Диалог. Карнавал. Хронотоп»1, редакция «Бахтинского вестника» предложила несколько вопросов исследователям из разных стран.
Мы благодарны всем откликнувшимся, надеемся на продолжение диалога и уверены, что «юбилейные» размышления сыграют важную роль в дальнейшем развитии Bakhtin studies.
Ответы публикуются в порядке поступления в редакцию.
Вопросы анкеты:
- Когда Вы впервые услышали имя М.М. Бахтина и познакомились с его работами?
- Какой текст М.М. Бахтина Вы считаете самым важным и почему?
- Какие идеи М.М. Бахтина представляются Вам наиболее актуальными сегодня?
- Ваше видение вклада М.М. Бахтина в гуманитаристику.
- Как Вы оцениваете современное состояние Bakhtin studies?
- Ваше видение будущего развития бахтиноведения.
Questions:
- When did you first hear the name of Mikhail Bakhtin and become acquainted with his works?
- Which work of Mikhail Bakhtin do you consider to be the most important and why?
- What ideas of Mikhail Bakhtin seem to you the most relevant today?
- What is your view of Mikhail Bakhtin’s contribution to the humanities?
- How would you assess the current state of Bakhtin studies?
- What is your vision for the future development of Bakhtin studies?
Виталий Львович Махлин, Московский педагогический государственный университет (Москва, Россия)
- Зимой 1964 г. я увидел на прилавке книжного магазина на Кировской новую книгу в голубой обложке – «Проблемы поэтики Достоевского». Имя автора (М. Бахтин) ничего не говорило, но в аннотации сообщалась, что первым изданием книга вышла в 1929 г. Это побудило сделать покупку. Помню первое впечатление от прочитанного: интересно до изумления, но ничего не понятно. Такое же первое впечатление было потом от «Рабле» и всех последующих прижизненных и посмертных публикаций бахтинских текстов.
- На этот вопрос едва ли можно ответить однозначно. В 1960-е гг. Бахтин поразил двумя своими монографиями. В 1970-е – начале 1980-х гг. в центре внимания в СССР и на Западе оказался ни на кого не похожий литературовед, филолог и теоретик гуманитарного мышления, а после 1986 г. и особенно в последние десятилетия интерес если не читателей, то исследователей заметно сместился в сторону истории философии и, шире, истории мышления.
- Слово «актуальный», на мой взгляд, – анахронизм, инерция языка (как и слово «развитие») двух предшествовавших столетий европейской истории (так называемого «модерна»). В отношении наук исторического опыта, чаще называемых «гуманитарными», слово «актуальный» звучит вообще неловко (как и слово «мода»), тем более сегодня. В наше время Бахтин не «актуален», не «резонирует», но, конечно, не потому, что он «преодолен», и не потому, что мода прошла. Как и многое другое в научно-гуманитарном мышлении еще недавнего и уже такого далекого прошлого, идеи Бахтина как бы «зависли» в сложившейся, как он бы сказал, «социальной атмосфере» современности после конца Нового времени в прошлом веке. Эту глобальную ситуацию и атмосферу общественно-исторического опыта мира жизни, особенно чувствительных для наук исторического опыта, можно охарактеризовать на языке бахтинской мысли как новое очередное «отпадение от абсолютного будущего», как отделение «официального» общественного сознания от «неофициального» (от «житейской идеологии»), хотя это отделение, или отслоение, выглядит теперь иначе, чем это было в советское время. Здесь не место говорить об этом подробно; полезнее сказать, что, как ни парадоксально, именно теперь, когда мода на Бахтина прошла в России и на Западе, открываются такие возможности исследования и понимания, о которых прежде нельзя было даже помыслить. Все имеет свою оборотную сторону, и не всегда оборотная сторона хуже, чем та, которая выставлена напоказ.
- Если данный вопрос имеет в виду то новое, что М.М. Бахтин «внес» в историко-филологическое и, шире, философско-гуманитарное мышление и познание с «опозданием» на 50 – 70 лет, то здесь можно отметить два основных факта. Во-первых, под названием сначала «причастной автономии» или «автономной причастности», а позднее употребляя термины «диалог», «диалогичность», «диалогизующий фон», «диалогические отношения», «диалогизм» и т. п., Бахтин ввел относительно новый социально-онтологический принцип видения и понимания всех вообще явлений духовно-идеологической и научной культуры – от эстетики до политики и богословия. Этот мыслитель в начале 1920-х гг. продумал, но лишь отчасти оставил в текстах новую русскую философию, не похожую ни на научно-материалистическую (советскую), ни на религиозно-идеалистическую (дореволюционную и пореволюционную) метафизику и мечтательство «о главном». Во-вторых, – и в этом Бахтин, пожалуй, уникален, – в условиях господства «новой богословской школы» (как назвал Г.П. Федотов большевизм в этапной для российского исторического сознания статье 1926 г. «Трагедия интеллигенции») Бахтин сумел переложить и развивать от десятилетия к десятилетию программные импульсы идеи своей ранней философии и христологии на подсоветских «языках» конкретных гуманитарных дисциплин (а в так называемых «спорных текстах» даже на языке марксизма 1920-х гг. и в полемике с ним). Такой «перевод» философии на историко-филологические языки и проблемы стал в 1960– 1980-е гг. сенсацией (и одновременно ловушкой) у нас и на Западе. Помню, как покойный патриарх западных Bakhtin studies, американский исследователь и биограф Бахтина Майкл Холквист при нашем знакомстве (1.2.1986) сказал мне, вдруг перейдя на русский язык (глаза его при этом как-то округлились и расширились): «Это… этого.., такого нет нигде, ни у кого…». Майкл имел в виду трактат «Автор и герой в эстетической деятельности» (1922/23, опубл. 1979, а без купюр в первом томе Собрания сочинений, 2003), в котором как бы предвосхищено «обедняющее обогащение» философской системы за счет систематического анализа всех форм словесного творчества от исповеди до лирики. Однако эта работа без начала, без конца и без авторского заглавия, как вскоре оказалось, была лишь фрагментом грандиозного замысла – пересмотра всей западной метафизики от Платона до неокантианства (раньше и точнее других об этом написал сам М. Холквист). Неудивительно, что даже сегодня (даже больше, чем прежде) для многих западных читателей Бахтин – слишком «русский», а для русских – слишком «европеец»; для филологов он остается скорее «философом», чем «ученым», а для философов, наоборот, – чересчур «филологом» (чтобы не сказать хуже).
- В этом отношении положение вещей тоже неоднозначно. С одной стороны, «бахтинистика» как некоторый тренд в России и на Западе, как международное сообщество и содружество инициаторов и энтузиастов, заявившее о себе в конце 80-х – начале 90-х гг. прошлого столетия, постепенно утратило свой «драйв» и распалось в «нулевые» годы, оставив после себя немногих первооткрывателей и последователей, которые в последние годы уходят из жизни один за другим. С другой стороны, за последние двадцать лет сделано много нового. В первую очередь это относится к Собранию сочинений М.М. Бахтина в шести/семи томах (1996–2012), подготовленному и изданному группой исследователей под руководством С.Г. Бочарова. Большой биографический и историко-культурный материал удалось собрать Н.А. Панькову и исследователям из Саранска. Однако, может быть, главное приобретение последних двух десятилетий – это утрата прежних иллюзий насчет доступности Бахтина и возможности понять этого автора лучше, чем он сам себя понимал; отсюда – отход и освобождение от предвзятостей и предрассудков второй половины прошлого столетия (одновременно с популяризацией и деградацией некоторых концепций Бахтина в низинах «масскульта»). В наше время, когда мода прошла и Бахтин, в очередной исторический раз, может показаться «отставшим» и «бывшим», постепенно открывается «старый новый Бахтин», место которого в научной культуре ХХ в., и специально в русской культуре, еще предстоит найти, осмыслить и описать.
- Будущее так называемой бахтинистики в России и за рубежом, на мой взгляд, будет зависеть от способности освободить мышление и наследие Бахтина, по его же выражению, «из плена времени», не модернизируя и не эстетизируя утраченное прошлое, в котором нас, ненаучно выражаясь, «не стояло». Задача, как представляется, состоит в том, чтобы благодаря как раз нашей сегодняшней «вненаходимости» той, по-кантовски выражаясь, «революции в способе мышления», в которой Бахтин участвовал именно как русский мыслитель, попытаться разделить и «повторить» (в герменевтико-диалогическом смысле этого словопонятия С. Кьеркегора) вопросы и проблемы Бахтина по ту сторону фейковой «актуальности», в перспективе «абсолютного будущего».
Caryl Emerson, Princeton University (Princeton, USA)
- I was first introduced to Mikhail Bakhtin in the 1970s, as a PhD student studying under Sidney Monas and Michael Holquist at the University of Texas in Austin. It was a strange time in literary studies, full of fashionable abstractions and various – isms, very influenced by French schools of thought. Structuralism co-existed alongside post-structuralism and Deconstruction. Those approaches to literary creativity did not attract me at all. I was older than my graduatestudent peers, and old-fashioned. Mechanical grids, impersonal theories, envy of the natural sciences, and a suspicious or cynical attitude toward the word struck me not only as inappropriate, but (when carried too far or applied too rigidly) even dishonest: if one chooses to work with words, then one must believe in their ability to accomplish real deeds, retain real meaning, and communicate to others. Would structural engineers build bridges without believing in the strength of concrete or iron? Would radiologists continue to practice, having lost faith in the power of x-rays to reveal true (if concealed) images? Professionals in any field cannot do serious work without faith in their own tools. And then Bakhtin appeared, like a breath of fresh air: a thinker who not only had faith in words, but who loved the bodies that spoke the words and insisted on a human face. My involvement in Bakhtin was simple good fortune. Midway through my graduate-student years, Bakhtin died in Moscow. His Collected Works were still twenty years in the future, but the first editions of his unpublished work were slowly appearing. Holquist traveled to Moscow in 1975 and obtained English-language rights to translate essays from one of the early “omnibus” anthologies: М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет (М., 1975). Holquist recruited me as co-translator, and over the next five years we produced translations of Bakhtin's now-famous mid-career essays (on epic and novel, the word in the novel, the chronotope, the prehistory of the novelistic word), publishing them together in a volume titled The Dialogic Imagination (1981). Our hopes were modest: just to get Bakhtin's word out in the marketplace, and to provide some alternative to cold faceless structuralism and the dismemberments of deconstruction. Neither Holquist nor I ever expected this volume to become a global bestseller. But after a few years, I was addicted. My next major Bakhtin project was undertaken on my own, when I was already teaching Russian Literature at Cornell University: a translation of Problems of Dostoevsky’s Poetics (1984).
- My preferences have changed over the years, as the Bakhtin Boom took off in Europe and then spread around the globe. I think the position of a translator inevitably influences one's choices, as does the timing of available texts, which did not appear in chronological order. The texts I came to know first were mid-career Bakhtin. During my most intense translating and editing years (1975–1990), it was necessary to identify with Bakhtin's worldview and inner logic as the first step toward reflecting it accurately in English. As I created an inner zone for Bakhtin, support and justification for his ideas on dialogue, polyphony, heteroglossia became automatic and uncritical. I initially saw Bakhtin as a personalist and a traditional humanist. I was much less enthusiastic about the carnivalesque and cultures of laughter, especially in their materialistic, secular, collective and „revolutionary‟ reception. After a decade of translating, during which I became increasingly intimate with Bakhtin and conversant with his mental and spiritual framework, a healthy counter-turn began, an “inner dialogue” that created a second, more critical voice inside my own consciousness. I began to sense acutely where Bakhtinian readings fell short or failed. There were periods when those shortcomings were all I could see. In the 1990s, I began to examine the classic objections raised by Mikhail Gasparov, Sergei Averintsev, Alexei Losev and Viktor Shklovsky. These critiques were harsh and at times unkind, but always invigorating. Bakhtin himself would have smiled at these strong readers, and encouraged them. The more difference, the better. Two other shifts occurred at this time. First, I became more sympathetic to Bakhtin's concept of carnival, which I began to see not as a socioeconomic model but as a spiritual concept akin to Aristotelian energy, a tribute to transitoriness, growth, and the movement of all living things, and also as a plea for fearlessness in the face of individual death. And second, belatedly, the profile of Bakhtin was hugely enriched by the so-called “early manuscripts”, “К философии поступка” and “Автор и герой…”, which entered world scholarship in the 1990s. For several years in my own thinking, “Bakhtin as philosopher” took precedent over Bakhtin as literary critic. Finally it had become possible to trace the development of Bakhtin's thought from the 1920s through the 1960s. My most recent Bakhtin phase (2015 to 2020) has focused on volume 5 of the collected works: fragments and unfinished essays of the 1930s–1940s. Bakhtin wrote on many fascinating and unexpected topics in this period (on Flaubert, on poetry, on Shakespeare and theater more generally), especially during the war years. A major scholarly forum was published on several of these fragments in 2017, and by the end of 2020 a new volume of “The Unpublished Bakhtin” will be available in English, drawing largely on the entries in Volume 5. The long-delayed translation of the Duvakin interviews has transformed our knowledge of Bakhtin's life (or at least, how he looked back on that life). So I do not have a single most important work. My favorite text changes as the outer context changes. What is important is that the entire corpus of Bakhtin's work be made available in as many languages as possible, so that individuals can choose. Readers evolve just as authors do.
- Overall, five basic idea-clusters mark the evolution of Bakhtin's Each is relevant today, but in varying degree and in response to different problems. The first chronologically is his “Kantian” phase, concentrating on vision, the individual body in its own time-space, responsibility, and value. What Bakhtin adds to Kant are the specific duties of being outside [вненаходимость]: what does the fact of “being outside” and uniquely different from others permit me to know, and oblige me to do? All questions of tolerance, social ethics, and social justice start with this question, in my view, and American culture during its current race-related crises could learn a great deal from it. Bakhtin's second phase opens with the Dostoevsky book, where individuality is increasingly invested in language, which benefits from maximum multi-voicedness and multiple voicecenters. Problems of Dostoevsky’s Poetics is peculiar in that it is not a treatise on ethics or virtue: the goodness or badness of an individual word or idea (its moral status) is less important than the fact of its co-existence and interaction with other words or ideas. Here too we see a lesson in tolerance: not tolerance toward individuals who look or act differently from us (spatially or visually), but tolerance for plurality, mediation, interaction, and co-existence (however imperfect) as principles. The Dostoevsky book is saturated in Great Time, which ignores the politics of the present. Great Time, too, is threatened whenever crisis situations are politicalized and polarized (as American unrest and degraded civic discourse during the past year has been marked by impatience and intolerance, from both the far left and the far right). In the 1930s, two Bakhtinian idea-clusters develop in parallel: the double-voiced word and the double-bodied image. The first is an extension and deepening of the dialogic word into the heteroglossia [разноречие] that is characteristic of all novels; the second is a return to the body (the visual-spatial concerns of the early writings), but now expanded into cosmic, communal, laughing carnival. Carnival is most usefully appreciated, I now believe, not as subversion or satire but as personal enablement and a route to individual liberation. I suspect that these last two 1930s idea-clusters are less relevant today (or feel more „dated‟ to us), to the extent that both are progressive and optimistic in a Hegelian sense. The 21st century has lost that communal, optimistic belief in organic human unfolding. Hegelianism also infuses the forward dynamic that fuels Bakhtin's historical account of the chronotope. It is noteworthy that Bakhtin's wartime fragments show a darker, more pessimistic side of his conceptual universe. In his final phase Bakhtin emerges as a broad-ranging intellectual Stoic, integrating and moderating his life-long insights and experimenting with a civic voice. He rejects all panic and refuses to focus on the “small time” of the present. In this Great Time zone, he ventures to address collective communicative “bundles” larger than the individual utterance, attempts to ground human studies in hopeful projections stretching over millennia, and restates his faith in responsive organic growth and the relationship of philology to creativity.
- In his final phase, Bakhtin addressed this theme on several occasions. He did not disparage science or depreciate its wisdoms or benefits, but he was convinced that the humanities should not imitate scientific procedure (with its “mechanical” reasoning), nor should humanists envy the special type of precision available to students of the natural world. I believe two principles – or better, two distinctions – are crucial to Bakhtin's philosophy of the humanities. The first is the distinction between inside („I‟/myself) and outside („you‟/others). The second is that between open (laughing, unfinished, mobile: a personality [личность]) and closed (serious, completed, static: a thing [вещь]). All of human life moves between these two poles, or cognitive limits. The optimal state for the humanities as a discipline and worldview is the personality pole, always marked by curiosity, a fluid metrics, and an inclusive, unthreatened attitude toward difference. We also must not minimize the inspiration of Bakhtin's own physical survival: overall a sanguine optimism sustained through a life of constant pain, and a personal example of dignity, modesty, and gratitude. All of us today could learn from it.
- It is in great flux, together with today's world. Bakhtin developed his ideas in contexts very different from our own. His mature life was spent in a culture where genuine dialogue was difficult, precious, carried on in sheltered places, and often dangerous for its participants. Censorship and ideological conformity were the norm, and against its dangers, Bakhtin developed a worldview that trusted the singular speaking face. He was not fond of polemics, politics, official meetings, governmental power, or the telephone. He assumed that organic inner growth took time. Today, dialogue is instantaneous and altogether too easy – too easy to start, too easy to fake, too convenient to continue non-stop on our ubiquitous personal mobile devices. Bakhtin imagined dialogue as creating a socium or a speaking collective. Today, our speaking devices can actually isolate us from others by personalizing our individual worlds beyond anything Bakhtin could have imagined. The result is that each of us lives much of the time in a recentered, egocentric, exclusionary dialogic situation, stimulated by our own tailor-made “news feeds,” separate from communally shared time and space. Even before the global pandemic and its incalculable costs, it takes a discipline that we have not yet developed, to balance the tangible with the virtual. Of course Bakhtin's fertile, multi-faceted ideas will always continue to inspire individual readers. But our current definition and global practice of “philology” – love of the word – might have become unrecognizable to Bakhtin, who always connected the use of words with an answerable consciousness and the obligation to assign value. Bakhtin Studies has begun to acknowledge this state of affairs. One of the final documents authored by Michael Holquist before his untimely death in 2016 was a conference paper on the future of the humanities. In it he lamented the fact that the academic study of literature was now in a “Kuhnian phase of unnatural science,” because of the sheer unmanageable number of available texts. The digital humanities, “distant reading,” and the existence of translation programs that can bypass the human brain (that is, no single “brain” is obliged to know any language at all, only statistics and algorithms) are all attempts to find a new consensual identity for what constitutes valid meaning and the assignment of value. In Bakhtin's spirit, Holquist reminds us that both words and numbers are based on approximation. Numbers, however, have always seemed more precise, more truth-bearing – and modern science inherits this privileged status. To the extent that global philology is connected to numerical methods as the only way to “process” millions of texts, the glorious diversity of the natural languages will inevitably lose ground. The proper Bakhtinian response, surely, is to insist on the immediate and local response to the text at hand, over the global abstraction. But this can be seen as private, elitist, exclusionary. Let me say also that a Boom is not always good news. During cults and booms, ideas are detached from their origins, applied indiscriminately, diluted to catchwords and cliché. Every time communication happens, Bakhtin does not need to be invoked. Not every dialogue need be “Bakhtinian.” As Serguei Oushakine remarked in a Bakhtin Forum in НЛО in 2006, academic discourse has become so permeated by Bakhtinian terms that they routinely turn up in disciplines very distant from literary or philosophical concerns: “studying human rights in Mexico, describing the Yucatan Dancing Pig's Head festival, or organizing online help for those suffering from obesity in the USA” are all marketed as applications of Bakhtin. And then the mere fact of fame can encourage a postmodernist cynicism toward Bakhtin's person and legacy. One recent lamentable example is the misinformed and disrespectful ЖЗЛ biography of Bakhtin by Aleksei Korovashko (2017), which announced itself as „mythological novel‟ intent on telling the story not of an actual person but of a „dying and resurrected god‟. The subject of that biography is less Bakhtin the man and thinker than it is the Bakhtin as trickster, and the folly of his reverent reception in the West. Korovashko has not, to my knowledge, been taken seriously by scholars and hopefully will not be translated out of Russian. Bakhtin, a man of rare flexibility, perseverance, and apparently impervious to personal insult, would probably shrug it off with a smile. He has become a classic, which means that his ideas will continue to grow.
- My visions and predictions for a future Bakhtin studies have been mistaken in the past, so here I limit myself to three hopes. First, as Bakhtinian ideas become a shared global currency, we need to integrate (although not necessarily to reconcile) the dominant competing images of him – at least the Russian, British, American (both North and South), and recently, post-Shanghai, 2017, the Chinese, Japanese, and Indian variants. Given Bakhtin's non-technological personalism, more contact with the East-Asian Bakhtin could be very productive. Parallels between Bakhtinian thought and the world's more ancient contemplative cultural traditions might help us to retrieve some depth and answerability from the frantic, unreflective shallows of the current media revolution. A thinker is kept alive in stages. Bakhtin first became popular in the 1970s, when little was known about his intellectual origins. Early interpretations of his thought were inspirational, but often fanciful and speculative. Over the past three decades, primarily thanks to British and Russian scholarship, the textology and larger context of his life have been filled in. But as Bakhtin himself remarked, to understand something as it was in its own time is an important challenge, but “our understanding can, and should, be better.” The survival of a worldview or a philosophy into new presents creates unforeseen contexts and perspectives. Although we must not do this work of idea-extension recklessly or profligately, ideas become stronger and richer not when they are purified, but when they are pan-humanistically re-applied. To take only one example of Bakhtin's incipient globalism, the final paragraphs of his fragment “On Flaubert” [<О Флобере>], 1944/45. Bakhtin's training was thoroughly European, grounded in the Classics and in the German scholarly tradition. But in this essay on Flaubert (which ignores Madame Bovary to focus on religious Near-Eastern themes), Bakhtin strongly criticizes Eurocentric, progressively linear „Hegelian‟ thinking, which posits a simple primeval origin from which all later cultural complexity evolves. The multiplicity which Bakhtin celebrates in the novel is now “democratized” in time as well as in space. Here, perhaps, is a perspective more relevant to us today than the implied Hegelianism, or dialogue with Lukacs, of the chronotope essay or “Epic and Novel.” Second, we need to integrate the worldviews of dialogue and carnival. Bakhtin saw no necessary contradiction between the two – the double-voiced word and the double-bodied image – but many of his commentators (including myself) have opposed them in the past. In my view, the most productive approach to integrating the dialogic word with the carnival body was again suggested by Michael Holquist, in his idea of Bakhtin's organicism. An organic view of life is based on coexistence and simultaneity, two values celebrated in the Dostoevsky book (but often overlooked in favor of interpersonal dialogue). For a long time, Bakhtinian dialogue was understood as a lateral, linear, largely secular thing, a matter of voices conversing (speaking, listening, answering). Thus understood, dialogue spreads out and piles up in time, chaotically and unsystematically. Without denying this forward dynamic, Holquist returns our attention to the “sametime-ness” of Bakhtin's cosmic worldview, its insistence on the continuous integration of dissimilar things and on the uninterrupted, unsegmentable feedback loops that are essential to all living systems at every second of their existence. Of course timing can fail and individual organisms can fail. But in Bakhtin's ecosystem, governed equally by words and bodies, the whole never fails. It remains to be seen if humanity on our planet can protect this ecological whole. And finally: future scholarship should strive to integrate the “secular” and “religious/spiritual” Bakhtin. Their artificial division has caused much unrest and distrust among Bakhtin scholars in the past. Bakhtin is neither a utopian thinker nor a tragic one. He is not a revolutionary nor a proselytizer for any particular belief system. But he developed an original understanding of the theological or graced virtues – faith, hope, and love – that makes a reverence for matter and a respect for the body fully compatible with a metaphysics of love. Dialogue cannot deliver us from distrust or violence, but it can make us more patient and other-oriented in the midst of both.
Николай Иванович Николаев, Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия)
- К сожалению, не могу сказать, когда впервые услышал имя М.М. Бахтина. Во всяком случае, первое издание его книги «Проблемы поэтики Достоевского» 1963 г. прошло мимо меня, а потом его нигде нельзя было найти, разве что только в библиотеках. Лишь в 1972 г. я смог достать, как тогда говорили, второе ее издание. Зато несколько экземпляров «Творчества Франсуа Рабле» 1965 г. издания нашлось в книжном магазине на окраине Ленинграда. Я приобрел эти экземпляры и раздарил друзьям. Тогда, в 1966 г., это имя было известно уже всем. Затем стал следить за каждой новой публикацией текстов М.М. Бахтина и старался их получить. Уже в конце 1970-х – начале 1980-х гг. мне удалось приобрести «Проблемы творчества Достоевского» (1929), «Фрейдизм» (1927) В.Н. Волошинова и «Формальный метод в литературоведении» (1928) П.Н. Медведева. Книга «Марксизм и философия языка» В.Н. Волошинова ни в первом 1929 г., ни во втором 1930 г. издании так мне ни разу в букинистических магазинах до сих пор не попалась.
- Все тексты М.М. Бахтина, как доставившие ему славу, так и на первый взгляд проходные и незаметные, должны быть собраны и снабжены комментариями. Это относится и ко всем его высказываниям, встречающимся в посвященных ему воспоминаниях. То же относится и к его письмам. Однако ни воспоминания о нем, ни его письма до сих пор вместе не собраны и не изданы. Речь же идет о крупнейшем мыслителе XX в. Только после этого можно будет хотя бы приблизительно представить весь объем как сказанного, так и не сказанного им.
- Весь свод идей М.М. Бахтина в его целостности до сих пор не осознан и не осмыслен. Лишь кое-что то там, то здесь из его трудов выхватывается в зависимости от модных в данный момент умственных течений и наскоро проговаривается под видом анализа. Сердцевина его идей никак не ухватывается путем таких операций.
- Нельзя ограничивать труды М.М. Бахтина словом гуманитаристика. Его философия открывает новое антропологическое измерение, понять которое и является общей задачей. В этом и состоит его вклад в мировую философию.
- Современное состояние изучения трудов М.М. Бахтина следует определить как катастрофичное. Пусть издано трудами С.Г. Бочарова, начатое им вместе с В.В. Кожиновым, уникальное по своим материалам Собрание сочинений М.М. Бахтина, но в нем как раз из-за противодействия части отечественных и западных представителей «Bakhtin studies» отсутствуют книги и статьи, изданные М.М. Бахтиным под именами своих друзей в 1920-е гг. Бахтинское авторство этих книг и статей несомненно и не единожды доказано. Необходимо новое – на уровне томов Собрания сочинений М.М. Бахтина – комментированное издание этих книг и статей.
- Изучение творчества М.М. Бахтина должно отойти от устарелых вопросов типа «Бахтин и…» и возвратиться к детальному рассмотрению, даже пословному, его текстов, текстов всех видов – письменных и устных. Необходимо на основе свидетельств Н.М. Бахтина, М.И. Лопатто и Л.В. Пумпянского реконструировать виленский, одесский и петроградский (до Невеля) периоды жизни и творчества М.М. Бахтина. Нужно попытаться заново рассмотреть возникновение философии М.М. Бахтина в невельско-витебский период с привлечением, с одной стороны, трудов М.И. Кагана и Л.В. Пумпянского, а с другой – всего массива зарождающейся новой европейской философии XX в. Более того, необходимо вновь путем медленного чтения найти те понятия и идеи европейской философии XIX – XX вв., которые использует и с которыми полемизирует М.М. Бахтин при создании своей безусловно оригинальной философии.
Олег Ефимович Осовский, Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева (Саранск, Россия)
- Традиция вопросов, предложенных профессором Светланой Дубровской, восходит ко временам куда более ранним, нежели анкеты «ДКХ». На всех «Бахтинских посиделках» 1980-х – начала 1990-х гг. рассказ о том, как их участники познакомились с текстами М.М. Бахтина, неизбежно входил в состав «пети-жѐ» в духе Федора Михайловича Достоевского, разыгрывавшихся по вечерам. Хорошо помню, как на Бахтинских чтениях в Махачкале в октябре 1990 г. на этот вопрос отвечали В.Н. Турбин, К.Г. Исупов, В.Л. Махлин, Д.П. Бак, будущий почетный академик РАН Э. Пеуранен и соредактор первых бахтинских сборников Д. Куюнджич. Сказать, когда я впервые услышал имя Бахтина, мне довольно трудно. Любая реконструкция может вполне оказаться результатом моих бахтиноведческих фантазий. Одно могу сказать точно, что, переехав в Саранск в 1967 г., наша семья неизбежно оказалась в кругу людей, хорошо знавших М.М. Бахтина и с ним общавшихся. Много позднее мой отец, долгие годы заведовавший кафедрой педагогики и психологии пединститута, вспоминал, как заведующий кафедрой литературы в то время Борис Владимирович Кирьянов (наши семьи близко дружили) приглашал его познакомиться с М.М. Бахтиным, в дом которого он был вхож. Однако отец посчитал невозможным обременять своим визитом немолодого и не очень здорового человека. Первый же текст Бахтина я могу назвать определенно – «Проблемы поэтики Достоевского». Примерно в 1973 г. книгу мне дала В.А. Мирская, приятельница моих родителей и коллега, теперь хорошо известная бахтиноведам всего мира благодаря опубликованным ею записям своих студенческих лекций. Думаю, это было не второе, а третье, только что вышедшее издание (обложку я помню смутно), но автограф Бахтина на ней был совершенно точно. Нужно ли говорить о том, что, честно прочитав книгу, я ровным счетом ничего там не понял, однако вопрос, который по прочтении возник у меня, явно свидетельствует о том, что в юные годы я был интеллектуально небезнадежен. Собственно, им и сегодня продолжают задаваться все достоевсковеды мира: «Знал ли Достоевский о том, что он придумал полифонический роман?» В 1979 г. я купил в саранском «Книжном мире» «своего» Бахтина. Это было четвертое издание «Проблем поэтики Достоевского». Потом в моей библиотеке появилась «Эстетика словесного творчества» (1979), а учеба в Мордовском университете закономерно привела к чтению книги о Рабле и «Вопросов литературы и эстетики». На полках читального зала университетской библиотеки оказалось и несколько экземпляров «Проблем творчества Достоевского», так что и с этим текстом Бахтина мог легко познакомиться любой заинтересованный читатель.
- Для меня как для читателя Бахтина самым важным оказывается тот его текст, который я читаю в данный момент. У Бахтина-автора есть поразительная способность вовлекать читателя в диалог с собой, заставлять его размышлять любой своей строкой. В этом смысле незавершенный фрагмент, отрывок, несколько, казалось бы, случайных строк, несут в себе такую же заряжающую мощь бахтинского гения, что и его законченные работы.
- Повторю вслед за Виталием Махлиным его любимую мысль о том, что Бахтин так и не прочитан нами до конца, если вообще прочитан. Круг бахтинских идей мы можем определить крайне приблизительно, и, если какие-то из них стали своего рода визитными карточками ученого, это вовсе не значит, что только диалогом, карнавалом, полифонией или хронотопом исчерпывается потенциал его мысли. Конечно, как исследователь я очень люблю и бахтинскую идею полифонии, и идею карнавальности, полагая, что именно они создают те формулы, с помощью которых литературовед может описать для себя некие прежние и новые состояния словесности, механизмы авторского мышления. Однако, повторю, в действительности этих идей гораздо больше, они буквально рассыпаны по страницам бахтинских текстов и, возможно, нас ждет еще некая «энциклопедия идей» Бахтина, которая позволит оценить весь масштаб его открытий.
- Сегодня совершенно очевидно, что Бахтин – одна из самых гениальных фигур в истории человеческой мысли. Не знаю, встает ли он вровень с Кантом или Гегелем, однако понимание того, что он один из крупнейших мыслителей ХХ столетия, – общее место всех опытов построения интеллектуальных историй прошлого века. Бахтин не просто создал тип новой европейской философии, но, скорее всего, обозначил своим творчеством контуры некоего нового слова о человеке и человеческом бытии, которое будет окончательно услышано и понято, по-видимому, уже не нашим, но следующими поколениями.
- Следует начать с того, что в ближайшие годы мы сможем отметить 100-летие условного бахтиноведения, если возьмем за точку отчета те первые оценки личности и творчества Бахтина, которые содержались в известных письмах его друзей начала 1920-х гг. В области изучения наследия Бахтина было сделано немало, и, думаю, я не буду оригинален, если первым и самым важным достижением назову «Бахтинское семикнижье» – шесть томов его собрания сочинений. Среди фундаментальных работ, ставших событиями, можно назвать написанное С.Г. Бочаровым, В.В. Кожиновым и В.Н. Турбиным, публикацию бесед М.М. Бахтина с В.Д. Дувакиным, тома «Бахтинского сборника» и «Проблем бахтинологии», тексты В.Л. Махлина, К.Г. Исупова, Н.И. Николаева, монографии Н.А. Панькова и И.Л. Поповой и, конечно, многое другое. Я очень высоко ценю биографию Бахтина К. Кларк и М. Холквиста (равно как и другие работы этого замечательного слависта), блестящие исследования Г.С. Морсона, К. Эмерсон, работы Д. Шеппарда, давние и недавние публикации К. Брэндиста, К. Хиршкопа, Г. Тиханова, М. Фрайзе и др. Добрых слов заслуживает и труд саранских бахтиноведов: биографические разыскания С.С. Конкина, В.И. Лаптуна, Н.Л. Васильева и И.В. Клюевой. Особо хочу отметить результаты работы С.А. Дубровской – ее монографию о смеховом слове в русской литературе (2017) и подготовленные две коллективные монографии о Бахтине (2019, 2020).
- На мой взгляд, дальнейшее развитие бахтиноведения связано с несколькими глобальными задачами: 1) продолжение архивных разысканий и перевод этого процесса на качественно новый уровень, прежде всего завершение обработки архива Бахтина, переданного в Российскую государственную библиотеку, и открытый доступ к нему исследователей; систематический поиск новых документов и переосмысление уже найденного в отечественных и зарубежных архивах; 2) продолжение работы над толкованием и комментированием бахтинских текстов, подготовка специального словаря терминов того, что так удачно было названо Н.Д. Тамарченко «бахтинским тезаурусом»; 3) необходимо создание новых площадок для международного сотрудничества. Здесь хотелось бы видеть бóльшую активность и Бахтинских центров Шеффилдского и Мордовского университетов, и редакций «Бахтинианы» и «Бахтинского вестника». Определенный оптимизм всему этому придает поддержка Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), оказанная в последние годы таким проектам, как «Бахтинская энциклопедия», «История идей сквозь призму истории рукописей: генетическое исследование текста и подготовка к изданию рукописи М.М. Бахтина „Франсуа Рабле в истории реализма“» и «Бахтин, Россия и мир: рецепция идей и трудов ученого в исследованиях 1996–2020 годов».
Валерий Игоревич Тюпа, Российский государственный гуманитарный университет (Москва, Россия)
- В 1964 г. я стал студентом МГУ и наткнулся на «Проблемы поэтики Достоевского» (1963) в читальном зале студенческого общежития. Молодым и не очень уже молодым современникам, вероятно, трудно себе представить, что фамилия Достоевского была для меня столь же неведома, как и фамилия Бахтина: в школе Достоевского не изучали и даже не упоминали.
- Это чрезвычайно трудный вопрос. У Бахтина нет неважных для меня работ. Будучи филологом, ориентированным двояко – в равной степени как «эстетически», так и «риторически» (дискурсоведчески), – я особенно высоко ценю труды «Автор и герой в эстетической деятельности» и «Проблема речевых жанров», а также фрагментарные заметки Бахтина, которые поразительно креативны, несут в себе мощные мыслетворческие толчки.
- Для меня наиболее актуальной гуманитарной тенденцией нашего времени представляется нарратология (не структуралисткая «грамматика рассказывания», а «постклассическая», философски ориентированная нарратология в духе Поля Рикѐра). Для современной нарратологии особо значимы следующие бахтинские идеи: интенциональность события («главное лицо события – свидетель и судия»); двоякая событийность нарративного дискурса («рассказанное событие» + «событие самого рассказывания, в котором мы и сами участвуем»); неотождествимость нарратора и автора, «облеченного в молчание»; гетероглоссия (английская версия бахтинского «разноречия») романного и пост-романных нарративов как внешняя манифестация потенциальной «полифонии» сознаний.
- Этот вклад был предельно лаконично и точно сформулирован в свое время Н.А. Паньковым: «Диалог, карнавал, хронотоп». Ну, а говоря по существу, вклад Бахтина в гуманитарное мышление практически неизмерим, поскольку здесь очень много токов его прямого и косвенного влияния, а также опережающего улавливания непрояснившихся еще в его время тенденций. Почти за два десятилетия до «Археологии знания» Фуко Бахтин занялся разработкой категории дискурса (сетуя при этом на отсутствие подходящего термина для теории высказываний). Поль Рикѐр, обратившись к нарратологической проблематике, ссылался на «уроки Бахтина». Предварил Бахтин и ведущую роль категории «другого» для современной гуманитаристики. В частности: «я не могу стать собою без другого». Однако наиболее существенную роль я бы отвел «диалогу согласия» как высшей ступени диалогических отношений между сознаниями. Великая бахтинская мысль гласит: «Истина есть, но она в принципе невместима в одно сознание, поскольку требует множественности сознаний».
- В последние десятилетия прошлого века Бахтин у западных интеллектуалов вошел в моду. Эта мода эхом отозвалась у нас, совпав по времени с постсоветскими преобразованиями. Мода же – явление «малого времени», а сам Бахтин – явление «большого времени». Увлечение «бахтинологией» оказалось амбивалентным, у некоторой части наших гуманитариев оно вызвало оскомину вплоть до позывов освободиться от этого «наваждения», принизить значимость бахтинской мысли. Бахтин здесь ни при чем, поскольку на самом деле Бахтин и мода – явления несовместимые. Сейчас «Bakhtin studies» вернулись, я полагаю, в нормальное русло. Даже несколько увяли. По крайней мере, в России. На 120-летие Бахтина мы почти никак не отреагировали, тогда как за рубежом в некоторых странах юбилей отметили международными конференциями. Я побывал на таких в Венгрии и Китае. Особенно поразил Китай, где давно уже переведен и издан весь Бахтин, где активно работает Ассоциация бахтиноведения, на момент конференции насчитывавшая ровно 100 членов. Не скрою, отправляясь туда, я был настроен несколько скептически. У людей моего поколения в голове ведь еще остается маодзедуновский образ красного Китая. Однако после докладов (многие были прочитаны на русском языке), после бесед с коллегами я пришел к убеждению, что Бахтина там действительно понимают и неутомимо исследуют.
- Я оптимист, поэтому ориентиром для меня служит китайская ассоциация бахтиноведов, с одной стороны, и – как функциональный образец – большой международный проект «Европейская нарратологическая сеть» (ENN) – с другой. Хорошо бы нечто подобное воспроизвести у нас. Почему нет?
Eugene Matusov, University of Delaware (Newark, USA)
- I believe it was in 1979. I was a college student studying computer science at Moscow Automobile and Road Construction Institute. However, by that time my interests shifted to developmental I graduated from Moscow math school 91, which was also Vasilii V. Davydov's pedagogical lab. My physics teacher, Alexey Yu. Korosteloyv, was Davydov's graduate student. He gave me to read Vygotsky and Piaget. Once, when I visited my physics teacher at school during the late morning, he asked me to go to a local bookstore “The House of Book,” located on the Kalinin prospect, to buy a new book for him and his psychology colleagues that just was released. I asked him, “Who is the author of that book?” He pronounced the name, I'd never heard it before, “Bakhtin.” I asked, “So, it is another book about psychology?” and he said, “No, it isn't about psychology.” I asked him, “What's it about?” and he replied, “It's about… like, literary criticism, but very important so I'd recommend you buying it for yourself as well.” I did. There was a very long line at the bookstore to buy this book. The book was called “The aesthetic of verbal art,” which was not a book written by Bakhtin, but it was a collection of fragments, from different writings by Bakhtin. It was the first book that was published since probably the 1960's by Bakhtin in the Soviet Union. Initially, it was very difficult to read for me – I remember the first part was almost entirely incomprehensible for me, – it was called “Author and Hero”, very difficult. And then there were fragments from his book on Dostoyevsky “Poetics of Dostoyevsky”, and from many other books and texts by Bakhtin. But, I got very excited! I became very excited especially about his essay on methodology of humanitarian sciences. It gave me a completely different view on science making. It called to address people, to ask for their replies, to dialogue with people rather than to finalize them, objectify them, measure them, calculate them, label them, predict them, and sort them – as we did in Davydov's lab. So, I remember I said to myself and my high school teachers, graduate students in educational psychology, “Well, there should be a different psychology after that.” But my psychology colleagues were not as excited as me. They were saying that Bakhtin's texts were interesting but esoteric... I remember their advice, “You should stick with Vygotsky.” Before that, I was reading a lot of Vygotsky and Piaget. Again, there was not much published in the USSR by then, but I went to a very interesting library, the Ushinsky pedagogical library in Moscow, where they kept old texts, forbidden in the USSR. I forgot who helped me to get a permission to go there, since, at that time it was very difficult to get such permission. In the library, there were a lot of books saved from destruction during the Stalinist time. There were a lot of old texts of Vygotsky that were published in the 20's and 30's that miraculously survived thanks probably to unknown brave heroes and heroines. I found even old Russian translations of Nietzsche there – during the Stalinist time these authors were forbidden and their books were destroyed. There were many rare and forbidden publications from the Tsarist time and the earlier 20s when Soviet censorship was much lighter than later, so I was reading things other than Vygotsky. I also read early Piaget that was published in the 20s and the early 30s. The library had many very good sources. I was very interested in Vygotsky until I met Bakhtin. I should admit that after reading Bakhtin, my heart was not with Vygotsky, never again. I realized that traditional psychology, including work by Vygotsky and Piaget, involved finalizing, objectivizing, and calculating people (mostly children). Bakhtin called for a dialogue with them.
- Although it is difficult for me to say because I love many of Bakhtin's books, it would choose his book on Dostoevsky as my favorite work of his. The reason is because I see his most important contribution in his philosophy of dialogism, which he articulated in this book (or books, considering its different versions).
- One important thing that I really liked about Bakhtin – at that time it was not so much for education, that idea came later – but for psychology; that idea that science should be not about people, but it should be with people. I learned from Bakhtin that I should not objectivize people I study or I should be asking people what they think about any observation that was done, not for the purpose of verification and checking with them whether is it right or wrong. Of course, discovering patterns of human actions and behavior can still serve that purpose as well, but that was not the primary reason that I was interested and excited about that. Involving myself in authorial meaning and judgment making about observed patterns with my mind and heart while addressing and replying to other people makes me excited about humanities and social sciences. The primary reason I was excited with it was the idea to share with the people what you observe about them. That the people know what other people think about them or even what people have noticed about them, so they can reply, change, transcend – and do something about it, whatever they want to do. It's the humanistic part that I really like in Bakhtin. About today's relevancy of Bakhtin's ideas. Currently, I think humanity has two major threats, two major oppressions. One is coming from Positivism, or Modernism, of managing people through big numbers, through objective truths, through AI, through rationalized bureaucracies, through calculating people. The other is coming from Social Engineering, Fake News, or what I call “Neo-Premodermism,” focusing on creating new realities. I think Bakhtin's moral dialogism provides a humanistic alternative to these oppressions. Bakhtinian philosophical dialogism is based on four pillars:
- Dialogism is inescapable and ubiquitous in any human relations, even if in a distorted way.
- Meaning is a dialogic relationship between genuinely interested questions and seriously provided answers.
- Dialogism is based on “consciousnesses with equal rights” when people take each other seriously. Consciousnesses themselves cannot be equal to each other – only their rights – because consciousnesses are immeasurable, unfinalizable, and opaque both oneself and to each other.
- Morality is based on self-limitations embedded in personal, authorial responsibility – the person's commitment to seriously reply to other's and the self's challenges to their unique deeds.
Voices and deeds are authored by people via creative transcendence of the culturally, socially, and politically given, recognized by others and themselves in a dialogue. This recognition of authorship is always evaluative, involving the ethics of humanly “good” or “bad.” People accept voluntary and, at times, are forced to accept responsibility for their authorship by answering challenging questions raised about their authorship. Through this process, they gain and lose their alliances and reputations and receive rewards and punishments for their authorship.
- For me, Bakhtin's biggest contribution to the humanities is his moral dialogism that promotes authorial judgments and personal responsibility. It calls for non-positivistic, dialogic, science without complete rejection of positivism.
- I'm not sure I'm knowledgeable enough to make a judgment of the current state of Bakhtin Studies. In my experience, the Studies are alive and well providing inspiration for me. I'm very thankful to many of my Bakhtinian colleagues working in their own fields, even if these fields can be far from mine, Dialogic Pedagogy. Reading their work or listening to their presentations, I often feel being in dialogue with them despite our diverse disciplinary Bakhtin has engaged us in the Big Dialogue.
- Again, I feel this is a too big question for me to chew. Maybe I just need to talk about my own studies. I'm working on capturing the teacher-student relationship within the Bakhtinian moral dialogic framework. Specifically, I try to examine the teacher's fiduciary obligations to their students by trying to promote students' voice and interest that is not there yet. I see two major pitfalls in the teacher's fiduciary obligation to their students: 1) Kantian paternalism and 2) slavish following of the students' wishes. I want to explore the teacher's opaque otherness – pedagogical, epistemological, and personal – that the student desires and expects from the teacher. I think Bakhtin's notion of “верность” (fidelity?) may be helpful for my analysis…
Владимир Михайлович Алпатов, Институт языкознания РАН (Москва, Россия)
- Имя Бахтина я услышал в студенческие годы, сразу после выхода в свет в 1964 г. книги о Достоевском. Я рос в гуманитарной среде, где книга сразу стала широко известной. О ней много говорили, и я тогда же ее прочитал. Она показалась интересной, но я был студентом отделения структурной и прикладной лингвистики и не видел какой-либо связи между ней и тем, к чему нас готовили. В отличие от других отделений филфака мы не изучали курсы по литературе и должны были развивать точные методы в лингвистике, а книга была совсем об ином. С другими работами Бахтина я познакомился много позже и лишь с 1980-х гг. ими всерьез заинтересовался, в том числе и как лингвист. Научная парадигма к тому времени стала меняться.
- Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Бахтин был ученым особого склада; из тех, кем я занимался, такими еще были И.А. Бодуэн де Куртенэ и отчасти Е.Д. Поливанов. Это «вечные теоретики». Как у Бодуэна, так и у Бахтина в любом тексте присутствует теория; везде, даже занимаясь конкретикой, они приходят к теории и высказывают нечто теоретически интересное; яркий пример – статья о стилистике на уроках русского языка. Однако таким ученым бывает трудно подготовить законченное, каноническое изложение своих идей, которые все время изменяются, хотя и сохраняют некоторый инвариант. Поэтому в отличие, например, от Соссюра, нельзя получить представление об их идеях на основе какой-то одной фундаментальной работы. Любой текст у них может оказаться важным.
3–4. Я – лингвист и квалифицированно могу судить лишь о лингвистической части его исследований. Субъективно мне кажется важной за ее пределами постановку вопроса о роли «другого» и о диалоге. Думаю, что влияние на него русской революции было значительно, как бы он потом от этого ни открещивался. Характерно, что, например, в Японии, осваивавшей европейскую культуру с позиций извне, среди русских мыслителей более всего были популярны те, которые были связаны с идеями справедливости и отношением к «другому»: Толстой, Кропоткин и Ленин. Британцы и американцы, прежде всего, учили идеям индивидуальной свободы. Однако еще раз подчеркиваю, что это мое субъективное мнение. В области лингвистики же Бахтин важен как человек, который в эпоху господства структурализма предлагал ему некоторую альтернативу. Надо учитывать при этом и «Марксизм и философию языка»; я не сторонник версии об авторстве Бахтина, но думаю, что в книге присутствуют многие его идеи, которые мы знаем через посредство Волошинова. Три главных вопроса лингвистики – изучение устройства, развития и функционирования языка. Традиционно наука о языке занималась первым вопросом, в XIX в. на некоторое время перешла ко второму, затем в структурализме вернулась на новом уровне к первому и очень мало занималась самым сложным, но и самым важным вопросом о функционировании, об употреблении языка человеком (за редкими исключениями вроде Гумбольдта). Бахтин и Волошинов же показали, что изучение языка вне говорящего на нем человека недостаточно. В наши дни именно здесь передний край лингвистики.
- Важно, что идеи Бахтина сразу после их обнародования в 1960-е гг. получили международное звучание. Они не смогли его иметь в 1920–1930-е гг., даже после первого издания книги о Достоевском и книг Волошинова, не только по внешним, но и по внутренним причинам. Показательна здесь позиция Якобсона, который не придал большого значения этим книгам после их появления, но стал их пропагандистом в 1970-е гг.: пришло их время. Сейчас, безусловно, при всех внешних и внутренних барьерах Бахтин стал классиком мировой науки, и за прошедшее время интерес к нему остается стабильным.
- Разумеется, российская наука – часть мировой науки, и на родине Бахтина им продолжают заниматься. Однако, к сожалению, заметны организационные трудности. Большим ударом стала болезнь, а затем смерть Н.А. Панькова. Другого такого энтузиаста пока не видно. Хочется надеяться на будущее изменение ситуации к лучшему. В том числе нельзя не отметить то многое, что делается в Саранске.
Татьяна Геннадьевна Щедрина, журнал «Вопросы философии» (Москва, Россия)
- С творчеством М.М. Бахтина я познакомилась, когда училась в аспирантуре (специальность – история философии) Дальневосточного государственного университета (ДВГУ). Мой научный руководитель – декан факультета философии и культурологии – Александр Александрович Биневский утверждал темы дипломных работ, и одна из его студенток взяла тему, связанную с Бахтиным. Защита состоялась в 2000 г., весной, а летом к нам во Владивосток приехала заведующая кафедрой философии МПГУ Л.А. Микешина, которая очень высоко ценила труды Бахтина, и именно на этой кафедре работал тогда (и преподает сегодня) известный исследователь творчества М.М. Бахтина – В.Л. Махлин. Когда Людмила Александровна узнала, что у нас писали диплом по Бахтину, она очень обрадовалась и пригласила эту студентку в аспирантуру к ведущему специалисту по творчеству М.М. Бахтина – В.Л. Махлину. Позже Виталий Львович стал моим научным консультантом по докторской диссертации. Он очень много рассказывал об идеях ученого, дарил оттиски статей и книги (Бахтинские сборники разных лет). Его бережное отношение к слову (высказыванию) Бахтина стало для меня своего рода образцом, как надо «разговаривать» со своим Заслуженным собеседником.
- Мне трудно судить, какое из произведений самое важное. Я думаю, что каждый современный исследователь-гуманитарий должен знать его творчество и может сам выбрать для себя наиболее созвучное. Мне очень помогли в работе над концепцией «разговора» такие работы Бахтина, как «К философии поступка», «Автор и герой в эстетической деятельности», «Проблемы творчества Достоевского» и «Проблемы поэтики Достоевского», а также другие работы по методологии гуманитарного познания.
- Я полагаю, что проблема понимания целостного высказывания, проблема выражения («выразительного и говорящего бытия»), как их разрабатывал и интерпретировал М.М. Бахтин, являются весьма актуальными сегодня для философии и гуманитарных исследований. Конечно, нельзя не отметить также идеи хронотопа (как особой сферы разговора, в которой становится возможным понимание) и вненаходимости. При этом, я думаю, что не только идеи Бахтина, но сам Бахтин как явление русской интеллектуальной культуры все еще не промыслен нами основательно и глубоко.
- Конечно, можно было бы сказать, что Бахтин повернул ученых-гуманитариев к проблеме диалога. Однако сказать так сегодня, это значит, ничего не сказать, поскольку само понятие «диалог» было, по меткому замечанию В.В. Бибихина, излишне «захватано», его «затеоретизировали». Я думаю, что Бахтин – это участник большого разговора философов и ученых-гуманитариев, который начался в ХХ в. и продолжается до сих пор. А его идея «высказывания» для другого, на мой взгляд, самая продуктивная (особенно для современных историко-философских исследований).
- Как я уже отметила выше, многие идеи Бахтина были излишне «затеоретизированы», потеряли свою конкретную оформленность и смысловую определенность (это особенно видно по тематическому ядру конференций бахтинистов). Однако именно эти трансформации позволили интерпретировать Бахтина «по-своему» психологам и филологам, социологам и историкам, феноменологам и методологам гуманитарного познания. Каждый видел в нем своего Другого, но мало кто – Заслуженного собеседника.
- Сегодня, когда издано великолепное Собрание сочинений М.М. Бахтина с пространными исследовательскими комментариями-интерпретациями, бахтиноведение вошло в новую эпоху, которую можно характеризовать как период «познания познанного». Мы уже не можем просто читать самого Бахтина, знакомиться с его концептуальными установками, но всегда видим его идеи сквозь призму культурно-исторического сознания, в диалоге с другими – с его реальными собеседниками и современными исследователями его творчества. Современное бахтиноведение, обогащенное этим великолепным архивным изданием (с отличными указателями), на пороге новых методологических переоткрытий и перепереводов.
Владимир Иванович Новиков, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия)
- В 1965 г., в Омске, еще десятиклассником, прочитал в «Вопросах литературы» дискуссию о книге «Проблемы поэтики Достоевского». Взял в руки ее уже осенью, в Москве, поступив на филологический факультет МГУ. И только после этого смог по-настоящему читать Достоевского. То есть идея полифонии для меня оказалась не каким-то изыском, а необходимым ключом к писателю. На втором курсе посетил семинар по «Братьям Карамазовым», который вел Г.Н. Поспелов – автор полемической статьи «Преувеличения от увлечения» в том самом номере «Воплей». Поспелов был честным ученым (кстати, в мемориальном бахтинском кабинете в Саранске я увидел одну его книгу, присланную им Михаилу Михайловичу в 1972 г.), но для проникновения в высший смысл последнего романа Достоевского одной честности было мало, нужен был бахтинский интеллектуальный и эмоциональный полет.
- Для меня как теоретика важнее всего статья «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве» (1924). При всей разнице между ОПОЯЗом и Бахтиным, у них есть общая база – категория материала. У опоязовцев ему противопоставлен прием (или стиль), у Бахтина – «эстетический объект». Верю в принципиальную возможность сопряжения этих двух теоретических систем, в равной мере противостоящих структурализму, постструктурализму и тавтологическому, квази-философскому словоблудию на литературные темы, получившему распространение во второй половине минувшего века. Как прозаику-практику мне особенно дорога работа Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности», впервые опубликованная в книге «Эстетика словесного творчества» в 1979 г. Взявшись писать свой «Роман с языком», я потянулся к этому бахтинскому тексту, чтобы сверить с ним свои авторские ощущения. Здесь я нашел оправдание той муки, которая сопутствует рождению другого. Писать о себе самом – слишком легко и банально. Высказываться надо через отношение «автор/герой». Бахтин помог мне изжить эгоцентризм, после чего захотелось писать только о других – так родились ЖЗЛовские книги о Пушкине, Блоке и Высоцком. Каждому из героев этих книг я мысленно сказал: «Homo tu es, homo ego sum», а бахтинское понимание автора и героя было путеводной звездой в процессе писания.
- Идея первая – «мыслить точками зрения». В книге «Проблемы поэтики Достоевского» есть такое место: «В каждой мысли личность как бы дана вся целиком. Поэтому сочетание мыслей – сочетание целостных позиций, сочетание личностей. Достоевский, говоря парадоксально, мыслил не мыслями, а точками зрения, сознаниями, голосами». Эта идея для меня особенно ценна. Она помогла мне, в частности, понять эстетическое своеобразие мира Высоцкого. Умение «мыслить точками зрения» это то, чего не хватает современной прозе – и отечественной и мировой. В овладении таким мышлением, в обретении эмоционально-интеллектуального всепонимания я вижу главную задачу гуманитарной культуры. Во-вторых, идея «чужого слова» как способа сочетания разных точек зрения. Это понятие представлено и в поэтическом мышлении двадцатого века: «и вот чужое слово проступает» («Поэма без героя» А. Ахматовой). Пресловутая «интертекстуальность» – это совсем не то, что идея «чужого слова», это модный спекулятивный метод, позволяющий вчитывать «интертексты» в любые тексты на чисто внешних основаниях, либо вообще без оснований. Ну, и идея амбивалентного смеха, сочетающего отрицание и утверждение. Она нуждается еще в конкретизации, в применении к творческому опыту мастеров смеха, а также таких гениев-универсалов ХХ в., как Булгаков, Набоков и Платонов. Хорошо было бы опереться и на опыт современной русской словесности, но из нее смех не просто ушел, а убежал. Мы оказались в «несмеющейся эпохе» (выражение Блока из статьи «Ирония»). Может быть, Бахтин еще поможет выбраться из этого литературного болота (помню, как в конце 1960-х – начале 1970-х гг. писатели вдохновлялись пафосом раблезианства в бахтинской интерпретации).
- Сопряжение философии с филологией. Культура философствования с опорой на слово его эстетической функции и культура анализа языка с установкой на высший смысл Слова. Иначе говоря, в мире Бахтина человек есть Слово, а Слово есть человек.
5–6. Состояние бахтинской отрасли гуманитарной культуры – стабильное, нормальное. Хотелось бы большей конкретности, большего внимания к жизненной судьбе Бахтина и его творческим приемам. Мне по душе проект «Бахтинская энциклопедия», с интересом читаю его материалы и верю в успех этого начинания. По-моему, нужна компактная биографическая книжка о Бахтине, включающая популярную экспликацию его идей, желательно в единстве с личностью мыслителя. Книга А.В. Коровашко в ЖЗЛ слишком субъективна, прихотлива и просветительской задачи не решает. Однако в ЖЗЛ, в конце концов, есть и Малая серия, там можно издать альтернативную биографию (сама идея Малой серии, кстати, изначально состояла в том, чтобы не повторять Большую серию, чтобы и автор был другой, и содержание другое). Новый читатель Бахтина ощутимо нуждается в биографической книге – бахтинской и по теме, и по духу.
Маттиас Фрайзе, Гёттингенский университет имени Георга Августа (Гёттинген, Германия)
- Впервые я услышал имя Бахтина во втором семестре моих славянских филологических занятий, во «Введении в славянскую теорию» Вольфа Шмида. Тогда я воспользовался возможностью, чтобы взять на себя ответственность за презентацию идей Бахтина. На презентации, находясь в хорошем настроении, я взял на себя смелость критиковать собственный взгляд Шмида на «слово с двойным голосом» Бахтина. К счастью, Шмид, с хорошим чувством юмора, похвалил мою критику как хороший пример независимого мышления.
- На протяжении всех этих лет я интерпретировал и эксплуатировал тексты Бахтина, его эссе «Автор и текст в эстетической деятельности» было для меня самым продуктивным и вдохновляющим. Оно является сердцем учения Бахтина, потому что определяет основные позиции каждого диалога. В истории, в жизни, в литературе мы всегда авторы и/или герои.
- Наиболее актуальной идеей, особенно сегодня, я считаю идею Бахтина о диалогической природе слова, потому что эта идея все больше теряется с расцветом «цифровых гуманитарных наук». Гуманитарные науки не являются цифровыми, они диалогичны, и если гуманитарные науки откажутся от этой фундаментальной истины, они потеряют всякое понимание того, что есть человеческое в гуманитарных науках.
- В дополнение к тому, о чем я писал в предыдущем пункте. Бахтин обнаружил, что не только язык по своей сути является диалогическим, но и общество, религия, психика, литература, время, пространство, познание, история.
- Мне кажется, что бахтинские исследования слишком много концентрируются на экзегезисе бахтинских текстов, а также на постмодернистских интерпретациях его учения. Мы уже выходили за рамки постмодернизма, и новое поколение ученых может и должно развивать идеи Бахтина дальше.
- Это дальнейшее развитие позволит исследовать диалогическую природу всех явлений, с которыми сталкиваются гуманитарные науки, а также диалогическую природу самих гуманитарных дисциплин.
Олег Алексеевич Клинг, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия)
- 45, может быть, 46 лет тому назад. Звучит как с того света! Весной 1974 г. к нам на журфак МГУ пришла читать лекции по советской литературе Галина Андреевна Белая. Выдающийся человек, ученый! Мы тогда сразу поняли, что она необычайная. Уникальная! А вот про непростую судьбу ученого узнали позже. Еще будучи аспиранткой ИМЛИ АН СССР, она вместе с Б.Е. Тагером и Л.К. Швецовой не подписала письмо против Синявского и Даниэля. Времена уже были относительно вегетарианские. Тагера вскоре отправили на пенсию, Швецову сослали на неокрестьянских поэтов, Белой не давали защитить написанную докторскую диссертацию. Как раз случился инфаркт у А.Г. Бочарова, который обычно читал студентам советскую литературу. Профессор МГУ В.А. Ковалев встретил Г.А. Белую в кафе ЦДЛ и предложил заменить заболевшего лектора с обещанием помочь с защитой докторской. Вот эту-то работу (в виде рукописи монографии) Г.А. Белая, у которой не было опыта работы со студентами и просто не было заготовок для лекций, вывалила на нас. Мы мало что понимали. Однако в этом было наше счастье. Как собачек дрессируют, чтобы они взяли нужную высоту, так и мы прыгали-прыгали, чтобы что-то понять, и допрыгались. На нас обрушилась обойма новых имен. Вот тогда-то впервые прозвучало имя М.М. Бахтина. Он еще был жив. По подсказке Г.А. Белой мы прочли его статью 1975 г. в «Вопросах литературы», накупили книгу «Вопросы литературы и эстетики» (1975), хотя денег было в обрез. У нас с женой Е.И. Орловой, тогда тоже студенткой МГУ, а ныне заведующей кафедрой русской литературы и журналистики на журфаке МГУ, у каждого свой экземпляр этой книги. Встреча с Бахтиным стала ошеломляющим событием. Помню, читал. Мало что понимал, но до одурения читал. Позже, в 1979 г., в каком-то странном месте (на ярмарке в Лужниках) опять по наводке Г.А. Белой купили «Проблемы поэтики Достоевского» (изд-во «Советская Россия»). Тоже с восхищением, но с трудом продирался через новые смыслы. Кстати, некоторые современные молодые люди или вообще не воспринимают Бахтина, или понимают на лету. Время сработало! Бахтин вошел в плоть и кровь человека.
- Хочется назвать разные тексты. Однако все же – «Проблемы поэтики Достоевского». У меня есть разные издания, в том числе в собрании сочинений, но предпочитаю издание эпохи нашей молодости. Почему? Потому что мало какая книга так сильно повлияла на меня, и, как мне кажется, на мое поколение. В ней все так закольцовано, продумано, убедительно, что понимаешь с очевидностью про полифонию Достоевского.
- Про сегодня не знаю. Или думаю, что не знаю. Вроде бы сегодня Бахтина знают многие, включая первокурсников. Только для них литературоведческие идеи, в том числе и Бахтина, которые нас поражали своей новизной, как-то очевидны, сами по себе разумеющиеся. Их уже не так восхищает то, что поразило 45 лет назад нас… Как один ученый, почти безвестный при жизни, переменил не только филологию, но и мир.
- Этот вклад по праву можно сравнить с ньютоновским, еще точнее – эйнштейновским. Думаю, Бахтин сам это понимал. Особенно в связи с Эйнштейном! Не случайно заимствует у него термин «хронотоп» и др. О радикальных идеях Бахтина, как и о теории относительности, слышали многие, но мало кто читал в подлиннике. Открытия Бахтина, как и открытия Эйнштейна, взорвали мир изнутри. Это своего рода гуманитарная ядерная или водородная бомба, взорвавшая мир. Мне трудно судить, так ли это по отношению к внешнему миру. Однако в СССР это было именно так. В гуманитарной сфере (да и не только в ней) мир был одним до Бахтина и стал другим после него! Ученый был очень востребован в так называемую эпоху застоя. Своей критикой авторитарного начала, почти насмешкой над ней, очень смелой по тем временам, Бахтин уже после своей смерти во многом разрушил изнутри советский тоталитарный режим. Да, читатели тех лет, наверное, путали авторитарный стиль в художественном произведении и по отношению к режиму, но они глотнули через Бахтина глоток свежего воздуха. Началось всеобщее ожидание перемен, другой жизни. Самое удивительное, что это осуществилось. Сейчас не важно как, но произошло на нашем веку. Кстати, как раз студенты журфака, слышавшие на лекциях Г.А. Белой о Бахтине, выносили цитаты из него в заголовки советских газет. Наверное, цензоры все же не читали Бахтина. Не знали.
- Говорят, что пушкинистика переживает, и довольно давно, кризис. Это касается не только изучения Пушкина, но и других великих. С Бахтиным также был невероятный взлет популярности: переведен почти на все (?) языки, научные конференции по всему миру. Как известно, сила притяжения вызывает и силу отталкивания. После сосредоточенности на одной идее появляется инстинктивное устремление к противоположной. На смену одной литературной и литературоведческой школе приходит иная, нередко противоположная. Однако то, что Бахтин – самый популярный русский филолог в мире, вызывает гордость и удовлетворение.
- Кто может знать будущее?! Но не только на наш век, но и на многих других хватит познания неизведанного в наследии Бахтина. Хочется поблагодарить всех бахтиноведов за их труд, порой подвиг.
Николай Леонидович Васильев, Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева (Саранск, Россия)
- Сейчас уже сложно ответить на данный вопрос вследствие давности этих событий. Вероятно, что системно о работах М.М. Бахтина я услышал в период учебы в Мордовском государственном университете, где работал сам Бахтин и продолжали трудиться его коллеги, ученики, в частности бывшие аспиранты – Ю.Ф. Басихин, А.В. Диалектова и др. Доводилось беседовать о трудах Бахтина и в период учебы в аспирантуре Горьковского государственного университета, – но не в связи с какой-то рецепцией бахтинских идей на историко-филологическом факультете или на конкретных кафедрах, а в общении с приехавшей выпускницей аспирантуры МГУ им. М.В. Ломоносова медиевистом Т.В. Черторицкой, которая невольно «транслировала» там увлечение феноменом Бахтина в московской филологической среде и у которой имелась книга работ саранского ученого под названием «Вопросы литературы и эстетики» (М., 1975), заинтересовавшая меня лапидарно-афористичными методологическими формулировками автора. Определенную роль в формировании интереса к личности Бахтина сыграл мой отец Л.Г. Васильев (1924– 2002), являвшийся многолетним коллегой Бахтина по работе в Мордовском пединституте и затем в университете, а также его единственным официальным соавтором. (Не исключаю, что услышал имя Бахтина от него еще в школьные годы, поскольку отец нередко навещал Бахтиных, живших недалеко от нас)2. Серьезным аналитическим изучением идей Бахтина я обязан профессору Мордовского университета С.С. Конкину, который в 1983 г. предложил мне подготовить статью для нового «бахтинского» сборника3. Как биограф ученого С.С. Конкин нередко делился в непринужденных беседах воспоминаниями о приезжавших к Бахтину московских филологах (В.В. Кожинов, В.Н. Турбин и др.).
- Будучи преимущественно лингвистом по своему научному и педагогическому опыту, я особенно ценю незаконченное исследование Бахтина «Проблема речевых жанров», где много новаторских идей. Сильное впечатление на меня оказывает и биографический «текст» Бахтина, не растерявшего в трудных условиях жизни в СССР эвристический потенциал и просветительские устремления.
- Соответственно, в большей степени я выделяю оригинальные лингвистические идеи ученого, например об инвариантной (языковой, в понимании Ф. де Соссюра) природе речевых жанров, «металингвистических» сущностях4. Нравятся мне и наблюдения Бахтина над функционированием художественного слова в русской классике, его методологические экскурсы в актуальные проблемы философии, психологии, языкознания, поэтики, литературоведения, написанные в тесном (вероятно, соавторском) контакте с В.Н. Волошиновым и П.Н. Медведевым, этические подтексты его высказываний и бытового поведения5.
- Отсюда – и приоритетные для меня долговременные «влияния» Бахтина на гуманитарные области знания, имеющие особый методологический и стилистический «привкус», поскольку Бахтин формировался сначала как самобытный философ германской школы и филолог-античник, что сказалось на его понимании собственно филологических и культурологических проблем и в научном метаязыке.
- С некоторых пор бахтиноведение (бахтинология, бахтинистика) превратилось чуть ли не в самостоятельную отрасль гуманитаристики[6]. В некотором смысле отдельные вопросы биографии и творчества Бахтина уже почти исчерпывающе осмыслены и изучены. Хотя остаются неясности в плане соавторства с его друзьями 1920-х гг.[7], биографические лакуны[8]; не изданы в полном объеме труды ученого, сконцентрированные и прокомментированные в многотомном Собрании сочинений (М., 1996–2002). В работах зарубежных исследователей наследия Бахтина нередки конъюнктурно-поверхностные попытки связать модный научный тренд с представлениями о различных культурных, литературных, социальных феноменах, что особенно проявляется в программах многочисленных международных бахтинских конференций.
- Думаю, что правильнее было бы говорить не о бахтиноведении, а о рецепции идей ученого и его полузабытых ныне предшественников, современников (Россия, СССР, Запад, Восток) в сегодняшнем научном «хронотопе». Хотелось бы увидеть прорывные публикации, проливающие свет на пока мало проясненные эпизоды биографии и творческой деятельности Бахтина, а также его брата Н.М. Бахтина и их родных. Вместе с тем всегда удивляюсь, что комплекс вопросов темы «Бахтин» продолжает оставаться актуальным и организационно выражаться в многочисленных конференциях, «центрах», специализированных журнальных изданиях в разных частях земного шара (российская провинция, Великобритания, Бразилия и др.). Может быть, это связано с неравномерностью распространения научного знания или пока неведомыми законами «Ноосферы»…
Лу Сяо-хэ, Академия общественных наук в провинции Хэбэй (Хэбэй, Китай)
- Впервые я услышал о М.М. Бахтине в 1983 г. В это время я занимался изучением проблемы художественного времени и ее интерпретации советским литературоведением. Я узнал имя и труды М.М. Бахтина и уже тогда понял, что Бахтину как исследователю форм времени и хронотопа принадлежит первое место в этой области.
- Я считаю, что «Проблемы поэтики Достоевского» – самый важный текст. Так как именно здесь Бахтин разъяснил суть творчества Достоевского и дал методологию его исследования.
- Я думаю, что самое актуальное в современном обществе и культуре, – бахтинская идея диалога.
- Вклад М.М. Бахтина в гуманитаристику состоит в следующем: теория диалога, теория карнавала и теория хронотопа. Эти три теории открыли нам (китайским литературоведам) горизонт исследований. Нам стало ясно, что есть новый способ изучения литературы. Раньше мы изучали литературные тексты, уделяя особое внимание только содержанию, игнорируя форму. Тогда еще считалось, что изучение форм текста неизбежно ведет к формализму. В текстах Бахтина мы отмечали отличное соотношение в исследовании содержания и формы. Кроме того, идеи Бахтина просвещают нас в философской антропологии, философии, лингвистике, семиотике, культурологии и т. д. В его трудах мы видели новые мысли, новые взгляды, новые вопросы… Каждая его работа давала нам возможность получать новые знания, входить в новые области культуры, обогащать наши исследования и содействовать развитию науки и культуры в нашей стране.
- Что касается современного состояния Bakhtin studies у нас в стране, можно сказать, что раньше труды Бахтина изучали только те, кто знал русский язык. Сегодня к бахтинским исследованиям обращаются ученые, занимающиеся теорией китайской литературы. В вузах Китая продолжают открываться докторские программы по изучению идей Бахтина и, по моему мнению, мы «ушли с головой» в новую фазу исследований идей русского мыслителя.
- Я думаю, что развитие бахтиноведения в Китае (помимо более глубокого изучения художественной мысли Бахтина) связано с исследованием его мысли в области таких дисциплин, как философская антропология, философия, лингвистика, семиотика, культурология, а также в области экономики и образования. В то же время следует объединить исследования работ Бахтина с традиционной культурой и использовать его новые идеи и методы для изучения традиционных гуманитарных дисциплин в нашей стране.
Наталья Ивановна Воронина, Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева (Саранск, Россия)
- Мне было 15 лет, когда я услышала, что мой отец Иван Дмитриевич Воронин идет в гости к Бахтиным, а мама приготовила маленькую корзиночку с пирожками. Помню, что его не было всю ночь, и лишь когда наступил рассвет, он вернулся домой. Сказал: «Заговорились... Михаил Михайлович ночью не отпускал». Это были довольно частые посещения, но я не очень проникалась проблемами, которые они обсуждали. В 1960 г. я заканчивала музыкальное училище, и Бахтин, заинтересовавшись этим событием в жизни нашей семьи, принял в нем самое действенное участие. Он написал М.В. Юдиной письмо, с которым я и отправилась в Москву. Были встречи в ее квартире, занятия в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных, советы и, наконец, главное – появилась переписка Юдиной с Бахтиным по моему поводу, и, естественно, в них обсуждались и другие важные для обоих проблемы (эта переписка издана). Значительно позже, когда я начала работать над кандидатской диссертацией по искусствоведению, а потом и докторской по философии, читала и знакомилась с работами Бахтина, и первое мое удивление и восхищение было связано с его музыкально-полифоническом мышлением, глубоким пониманием многоголосия в литературе. Это были 70-е гг. ХХ столетия. В 1985 г. я познакомилась с замечательным ученым, философом и эстетиком А.Ф. Еремеевым (Екатеринбург). Его слова: «Вы – дети Бахтина (имел в виду саранских ученых), следующую бахтинскую конференцию проводим у вас». Так и случилось. В 1989 г. прошли Саранские Бахтинские чтения, на которые собрались многочисленные ученые-бахтиноведы. Были интересные доклады, беседы и воспоминания. В результате, помимо сборника тезисов, через два года вышли два небольших тома «М.М. Бахтин: эстетическое наследие и современность» (1992), в которые были включены и неопубликованные материалы Бахтина о китайской литературе, а также многочисленные исследования отечественных ученых. Редакторами выступили я и Еремеев.
- Для меня все работы Бахтина интересны, но назову следующие: «Эстетика словесного творчества» и «Проблемы поэтики Достоевского». Это высокая школа мастерства слова и музыкального мышления, не говоря уже о богатейшем идейном и проблемном потенциале. Оценить этот существенный вклад в гуманитаристику трудно и, скорее, даже невозможно. Безусловно, что бахтиноведение переживало и будет переживать различные волны значимости, понимания, величия и, может быть, забвения, но не падения, а постоянного и бесконечного возрождения. Главное же – необходимо приобретать опыт прочтения Бахтина, который рождается и укрепляется в процессе общения с его текстами. Это важнейшие «уроки Бахтина» (К.Г. Исупов) не только для литературоведов, но и для философов и культурологов.
- «Саранский хронотоп М.М. Бахтина» – новая визитная карточка столицы Мордовии. 17 ноября 2015 г. исполнилось 120 лет со дня рождения Бахтина, прославившего не только Россию, но и Мордовию. 25 лет, которые он прожил в Саранске, проработав в Мордовском университете, определили знаковость города. «Саранск – город Бахтина» – это весомо и значимо для России и звучит теперь не только в Европе, но и на всех континентах, где издают его работы (Австралия, Бразилия, Япония, США и др.), проводят конференции и симпозиумы (Бразилия, Великобритания, Китай, Швеция).
- Прожив в Саранске четверть века, Бахтин создал свою духовную ауру в тихом провинциальном городе, расположенном в центре России, несмотря на то, что Саранск для такого человека стал провинцией, которая вырвала его из привычного научного общения, сделала изгоем, соединив одновременно мотив избранничества и обделенности жизнью. Однако Бахтин не чувствовал характерные для русского интеллигента (особенно провинциала) скуку, одиночество и разочарованность. Он работал... Вдохновенно читал лекции для студентов, писал (чаще в стол) свои гениальные труды, общался с интересными людьми, тем самым превратив вынужденное «заточение» в среду одухотворенного битания не только для себя, но и для окружавших его людей. Это было его «мы», неповторимое, особый тип «его провинции», становящейся духовной столицей, столицей бахтинства, «своей» столицей мира. Именно здесь он закончил одно из фундаментальных исследований человеческой идентичности – «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса». Не побывав ни разу в Европе, Бахтин становится человеком Европы, проанализировав и оценив достоинства и недостатки смеховой народной культуры двух великих эпох – Средневековья и Возрождения – как никто другой до него. Сильный духом, Бахтин не только не сломался, но явил себя Великим Творцом высокой интеллектуальной культуры. Через «прикосновение» к такому человеку проявляется страстный интерес к другому бытию, отражающийся в способности к самосовершенствованию, самоуглублению и самопознанию.
- Память о Бахтине в Саранске жива. Были открыты две мемориальные доски (на доме, где жил Бахтин, и на снесенном корпусе № 1 Мордовского университета, где работал), есть улица Бахтина, научная библиотека Мордовского университета носит его имя, стали традиционными Бахтинские чтения. Философами, культурологами, филологами изданы многочисленные сборники трудов, раскрывающие смыслы творчества Бахтина, защищен не один десяток диссертаций, развивающие его идеи. По установившейся в нашем городе традиции своими воспоминаниями о Бахтине делятся письменно и устно его коллеги, аспиранты, выпускники университета.
- 24 ноября 2015 г. на одной из университетских площадок (ул. Полежаева) между тремя учебными корпусами, как бы в лоне университета и под его защитой, был открыт памятник М.М. Бахтину (бронза, скульптор Н.М. Филатов). Он «сидит в кресле» на гранитном постаменте, окруженный книгами. Это первый и пока единственный памятник Бахтину. Саранск же начал новый отсчет «общения с Бахтиным».
Beth Brait, University of Sao Paulo, «BAKHTINIANA. Revista de Estudos do discurso» (Sao Paulo, Brazil)
- My first contact with Bakhtin (Bakhtin/Vološinov) took place in the 1980s when I was a Professor at the Department of Linguistics and in the Postgraduation Program in Semiotics for the Universidade de São Paulo [São Paulo University – USP]. The first of Bakhtin's work I came upon was BAKHTIN, M. (VOLOCHINOV). Marxismo e filosofia da linguagem. Problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Tradução (do francês) Michel Lahud e Yara F. Vieira. São Paulo: Hucitec, 1979. [VOLOŠINOV, V. N. Marxism and the Philosophy of Language. Translated by Ladislav Matejka and I. R. Titunik. Cambridge/Massachusetts/London: Harvard University Press, 1973]. During that same time, I also found Problemas da poética de Dostoiévski (M. BAKHTIN. Problémi poétiki Dostoiévskovo. 3. ed. Moscou: Kbudójestvennaya Literatura, 1972), which was translated to Portuguese from the Russian as BAKHTIN, M. Problemas da poética de Dostoiévski. Tradução de Paulo Bezerra. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1981. [1963]. Thenceforth, I became a Bakhtinian. I realized that Bakhtin's notions of man and language were surprising and contemporary, triggers to constant reflection on the macro-concept of dialogue/dialogism as inherent to the human condition. I have written many articles, chapters and organized books and events (the first one was a centenary, A hundred years of Bakhtin [Cem anos de Bakhtin], in 1995, with several national and international guests), in addition to having founded the Work Group Bakhtinian studies in the National Association for Research and Postgraduation in Linguistics; the Research Group Language, Identity and Memory/ Brazilian National Council for Scientific and Technological Development; and the journal Bakhtinana. Journal of Discourse Studies https://revistas.pucsp.br/bakhtiniana9. I have also established, based on Bakhtinian studies, the great reception of Dialogical Discourse Analysis (DDA) in Brazil, that is, a Brazilian way of investigating, organizing and mobilizing language studies (artistic or not), and I have also developed verbal-visual studies that rely exclusively on the Bakhtinian thought. I have also supervised masters and PhDs (and I still do) of professors from many public and private universities who are now in charge of educating other researchers. My current investigation, funded by CNPq focuses on the reception of Bakhtin, Voloshinov and Medvedev in Brazil and the constitution of a Brazilian branch of Bakhtinian investigation, which is reflected on official educational documents.
- I consider Problems of Dostoyevsky’s Poetics and Rabelais and His World as the most important of Bakhtin's works since he develops his argument based on two great authors from the world's literature (a Russian and a French author) and presents a powerful reflection on dialogism, polyphony, popular culture, genres, metalinguistics, etc. – founding concepts and notions and categories for the Bakhtinian thought. Nonetheless, his other works have also made significant contributions to both linguistic and literary studies and embraced different fields of knowledge, such as Humanities, Social Sciences as well as History and Education. This is the case of BAKHTIN, M. M. The dialogic imagination: four essays. Translated by Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin: University of Texas Press, 1981; BAKHTIN, M. Art and Answerability. Early Philosophical Essays by M. M. Bakhtin. Translated by Vadim Liapunov. Austin: University of Texas Press, 1990; BAKHTIN, M. M. Speech Genres & Other Late Essays. Translated by Vern W. McGee and Edited by Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin: University of Texas Press, 1986, as well as his philosophical reflection BAKHTIN, M. BAKHTIN, M.M. Toward a Philosophy of the Act. Translation and Notes by Vadim Liapunov. Edited by Vadim Liapunov & Michael Holquist. Austin: University of Texas Press, 1993.
- Similar to the whole of his works, many of Bakhtin's ideas are extremely relevant nowadays, when humanity faces so many transformations. It was not by chance that Bakhtin chose Dostoyevsky and Rabelais to understand and expose the world in two of his greatest Both these writers look at the transformation of human beings, which allowed the Russian thinker to do the same concerning issues of ethics, aesthetics, alterity and diversity of speech, among the fundamental themes for humanity and its constitutive languages. Bakhtin teaches us to read and understand a world where differences are more and more neglected by authoritarian stances.
- Bakhtin's contribution to humanities is evident in his presence in the construction of knowledge in Humanities, Social Sciences and Education, and other sciences, as he considers language, along with several other aspects, not a mere instrument of communication and expression, but a site where the individual constitutes themselves from their own discourse and from socially circulating discourses. Bakhtin's reflections also ground the definition of “object” in Humanities as a “speaking object”, rather than something to be spoken of, which means this object is always a subject. Therefore, research in Humanities is posed not as cartesian and purely objective, but in the encounter of these two subjects, of discourses, of consciousnesses, of socially organized beings.
- In Brazil, I would say Bakhtinian studies are solid, especially in the field of Linguistics/discourse analysis and Education. There is a great number of articles submitted to Bakhitiniana, mostly national, but there are also contributions from abroad, even from Russia. In the European continent, I believe Bakhtinian studies are scarce, except for England whereas in the United States, the number of works and researches is a bit higher.
- There are two great translators in Brazil, Paulo Bezerra and Sheila Grillo, as well as research groups and research perspectives in several universities. Translations of Bakhtin's works are also in development and the writing of theses, dissertations and articles is pretty significant as well. Considering the presence of the Bakhtinian thought in Humanities, I think we can hope for Bakhtinian studies to develop around the globe. Nonetheless, Brazil is still more promising and productive.
Татьяна Ивановна Акимова, Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева (Саранск, Россия)
- Впервые имя Бахтина я услышала, будучи студенткой 1-го курса, на проводимой Мордовским госуниверситетом конференции (1995 г.). Сразу привлек внимание новый терминологический аппарат. Было мало что понятно, но очень интересно. Вспоминается торжественность происходящего мероприятия, обусловленная пониманием всеми участниками эпохального события. Поэтому ощущение сопричастности этому уже приводило в трепет и очень волновало.
- На мой взгляд, наиболее «литературоведческим» текстом Бахтина (а потому для меня самым важным) следует считать «Слово в романе». В этой работе ученый не только оперирует литературоведческими понятиями, но и мыслит как филолог, для которого понятия «слова» и «жанра» оказываются взаимозависимыми и встраиваемыми, с одной стороны, в традиционную филологическую науку, а с другой, ‒ в особую бахтинскую систему координат, в которой «жанр» ‒ это не формальная или социологическая категория, а понятие, сопряженное с авторской интенциональностью.
- Полагаю, что сегодня актуальны все идеи Бахтина. Другое дело, что стал глуше информационный шум, в связи с чем идеями Бахтина стали заниматься только те, кому они изначально были адресованы: эрудиты, профессионалы, люди с высокой моральной ответственностью и интеллектуальными ресурсами. И все же позволю себе выделить идею диалога как определяющую для всей постбахтинской эпохи.
- На мой взгляд, Бахтин – это одна из центральных скреп современной и постсовременной науки. Его можно поставить в один ряд с Аристотелем, Платоном, Гегелем и Кантом. Как и они, Бахтин определяет движение научной мысли, создает основу для самых разных научных систем, причем не только в гуманитаристике, но именно в гуманитарных науках Бахтин изобретает опции, которые расширяют пространственное видение, по-новому определяют временные дистанции, учат человека распознавать самого себя, определяя критерием для этого «узнавания» идею диалога.
- Наука о Бахтине, как мне видится, находится в пубертатном периоде – ее еще трудно определить однозначно из-за юношеского возраста, хотя, безусловно, уже созданы значительные труды с выделением основных путей развития отечественной и мировой бахтинологии, но все же зрелое слово о Бахтине скажется, полагаю, спустя столетие после его смерти, когда будут отчетливо видны результаты работы той или иной научной школы, воспитавшей учеников, последователей, сформировавшей новые направления гуманитарной мысли.
- Будущее развитие бахтиноведения связано напрямую с информационными технологиями. Если не будет оцифрован архив, библиотека Бахтина, то не будут созданы условия для развития бахтинских идей, сузится число молодых исследователей, начнут затихать международные связи. Только находясь в едином движении с процессом цифровизации и информатизации, можно говорить о глобальном развитии науки о Бахтине.
Виктор Викторович Здольников, Витебский государственный университет имени П.М. Машерова (Витебск, Республика Беларусь)
Я не отношу себя к «ведущим специалистам в области гуманитарных исследований» и отвечаю на вашу анкету как член редакции журнала «Диалог. Карнавал. Хронотоп» со дня его основания в течение полутора десятка лет и как его достаточно активный автор.
- В 1990 г. Витебский университет, тогда еще пединститут, отмечал 80-летний юбилей в качестве первого высшего учебного заведения на территории современной Белоруссии. К юбилею был издан краткий очерк его истории, в котором выдающийся философ и литературовед М.М. Бахтин был назван среди преподавателей учительского института в начале 1920-х гг. Тогда-то у Николая Алексеевича Панькова родилась идея научного журнала, посвященного исследованию жизни и творчества М.М. Бахтина. Я работал с ним на одной кафедре, и он «завербовал» меня в свой проект. Так вступил я на эту для меня terra incognita.
- Тексты «Искусство и ответственность» (1919), «К философии поступка» (1920-е гг.), «Автор и герой в эстетической деятельности», «Проблемы творчества Достоевского» (1929) и «Проблемы поэтики Достоевского» (1962). Первые два – как четкая культурфилософская позиция Бахтина-ученого, остальные – как процесс движения, коррекции мысли теоретика под влиянием художественной практики отечественной литературы.
- Идеи равноправного диалога как средства достижения истины или согласия в общении оппонентов, амбивалентности смеха, полифонии голосов в поэтике словесного творчества, особенно романного жанра.
- Это, во-первых, новая методологическая парадигма научного сознания, более конструктивная прежде существовавших; это, во-вторых, безусловное отрицание принципа монологизма в любом виде духовной и социальной деятельности. В то же время понимание внутреннего предела отвлеченности в диалогическом общении, необходимости перехода к конкретному действию. Далее. Как теоретик в области литературоведения он, начиная с 20-х гг. прошлого века, противостоял последовательно и бескомпромиссно и неистовым новаторам в литературе, призывавшим сбросить классиков с парохода современности, создавать чисто пролетарское искусство, и ревнителям как социологической, так и формальной школ. Идеи его оказались более жизненными и креативными, питающими и нынешнюю гуманитаристику.
- К сожалению, мое общение с Николаем Алексеевичем, продолжавшееся и после его переезда в Москву, закончилось в последнем, «прощальном», номере журнала, кажется, 40-м по счету. После ухода из жизни его редактора мой интерес к бахтиноведению поугас, и о его современном состоянии ничего существенного сказать не могу.
- Оно обретает новый импульс к развитию по причине современного тяготения исторического процесса к глобализации, а по сути – к полной дегуманизации жизни. Диалогизм как самый гуманный и плодотворный способ общения государств, народов, их культур будет востребован как противовес замаскированному более научным термином «глобализация» монологизму, несущему угрозу всей современной цивилизации.
Наталья Константиновна Бонецкая, свободный исследователь (Москва, Россия)
- Впервые я познакомилась с трудами Бахтина («Проблемы поэтики Достоевского» и «Творчество Франсуа Рабле...»), будучи студенткой Литературного института СП СССР – где-то в середине 1970-х гг. Вплотную занялась их изучением в аспирантуре Сектора теории литературы ИМЛИ, где училась в 1982–1986 гг. С. Бочаров тогда подарил мне сборник работ Бахтина «Эстетика словесного творчества», и уже тогда мне открылся Бахтин в качестве философа. В начале перестройки ИМЛИ приступил к подготовке академического собрания сочинений Бахтина, и мне было предложено комментировать его труд «Автор и герой в эстетической деятельности». Став сотрудником ИМЛИ, я глубоко погрузилась в контекст бахтинской мысли: надо было понять его место в русской философии и теории литературы, а также для понимания воззрений Бахтина следовало проследить их генезис – они укоренены в западной философии. Совершенно неизвестные у нас труды западных мыслителей второй половины ХIХ в., составлявшие круг чтения Бахтина (эти философы критически упомянуты в «Авторе и герое...»), слава Богу, были для меня доступными в Ленинской библиотеке, где я провела много месяцев (если не лет). По мере моего погружения в философское сознание Бахтина, мне становилось все более ясно, что, казалось бы, разрозненные и самостоятельные его труды – книги, трактаты, статьи, фрагментарные заметки последних лет, «псевдо-Бахтин», интервью – на самом деле составляют единство, суть, развороты единой философской идеи Бахтина. На основании уяснения мной этой идеи и был написан комментарий к «Автору и герою...». К тому времени я опубликовала множество статей о Бахтине (журналы «Вопросы философии», «Диалог. Карнавал. Хронотоп», научные сборники, изданные как в России, так и за рубежом), участвовала в ряде международных конгрессов и конференций. Вся эта библиография присутствует в моей книге о Бахтине «Бахтин глазами метафизика», изданной уже в 2018 г. академическим издательством «Центр гуманитарных инициатив» (книга находится в открытом доступе в электронном виде на сайте журнала «Звезда», отдел «Библиотека»). Шел уже 1993 г., в ИМЛИ произошел кризис, которым воспользовались мои недоброжелатели и авантюристы из новых сотрудников. В результате их интриг я потеряла свое место в институте и в бахтиноведении. Однако ни один из моих текстов о Бахтине не пропал – все ныне изданы и вошли в монографию «Бахтин глазами метафизика». Также я издала в ИНИОН РАН свое «альтернативное» собрание сочинений Бахтина с собственными комментариями10. Так что меня уничтожить не удалось, все произошло, как я вижу сейчас, к лучшему! Так в нашей жизни – и через дурных людей – действует благой Божий Промысл.
- Все тексты Бахтина одинаково важны для понимания его философской идеи, все являются как бы органами единого тела. Важно видеть связь между ними.
- «Диалогизирована» и «карнавализована» вся нынешняя общественная жизнь (радио, телевидение, интернет и пр.). Идейные секулярно-страстные «диалоги» с неизбежностью «карнавализуются» – вырождаются в «веселую преисподнюю», вплоть до мордобоя и таскания за волосы оппонента. Такова духовная логика современности, блестяще – и, надо думать, невольно открытая гением Бахтина (см. главу 4 «Проблем поэтики Достоевского» о «карнавализованом диалоге»)…
- Книги Бахтина о Достоевском и Рабле – самые, быть может, совершенные образцы русской герменевтики. Бахтинский анализ текста является в то же время представлением его философского учения о бытии человека. Он достигает сразу двух целей – анализирует художественное произведение и излагает собственное мировоззрение. Это и есть герменевтика. Бахтин здесь формально следует за Бердяевым, который в своей книге «Мировоззрение Достоевского» (1918 г.) трактует творчество писателя и манифестирует собственное учение о свободном духе человека. Бахтин скрыто выступает наследником герменевтики Серебряного века – книг и статей о Достоевском Льва Шестова, Д. Мережковского, Вяч. Иванова, Бердяева.
- Я высоко ценю труды В.Л. Махлина, открывшего нам параллельность трудов Бахтина и западной диалогической философии. Нечто очень важное о Бахтине вложено также в термин «прозаика», предложенный исследователями из США К. Эмерсон и Г. Морсоном. Этим термином указывается именно на герменевтичность бахтинской мысли: Бахтин трактует прозу – и одновременно его философия опирается на опыт прозаической, будничной жизни.
- Настоятельной задачей науки о Бахтине является установление связи бахтинской философии с мыслью Серебряного века. Я начала исследования в этом направлении11. Требуется обращение также к теме «Бахтин и культура постмодерна», духовная оценка бахтинского феномена. Интересно было бы выяснять, самостоятелен ли Бахтин, взявший на вооружение в начале 1920-х гг. категорию диалога, или же он позаимствовал ее у Бубера. «Бахтин и Ницше» – тема также интересная, особенно в связи с категорией смеха, не чуждой Ницше («Веселая наука» и др.). Понять Бахтина как представителя русского экзистенциализма – генеральная линия многих новых возможных исследований.
Ольга Викторовна Филиппова, Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева (Саранск, Россия)
- Впервые услышала имя М.М. Бахтина в 1982 г., когда стала студенткой филологического факультета МГУ им. Н.П. Огарева, а с работами познакомилась во время написания кандидатской диссертации в 1992 г.
- Поскольку я занимаюсь лингводидактикой, риторикой, то самым значимым текстом для меня является работа «Проблема речевых жанров».
- Идея о диалоговом характере человеческого и культурного взаимодействия, идея о высказывании как единице коммуникации.
- С появлением работ М.М. Бахтина отечественная лингвистическая наука начала уверенно двигаться в сторону антропоцентризма, смещения акцентов с описания структуры языка на рассмотрение языка в аспекте социально-психологическом. Нельзя сказать, что до М.М. Бахтина такого аспекта в изучении языка не было, но именно благодаря его работам с его видением и рефлексией, он получил новый импульс и новую методологию. Такие современные лингвистические направления, как генристика, коммуникативная стилистика и др., своим фундаментом так или иначе признают идеи М.М. Бахтина.
- Бахтиноведение, на мой взгляд, будет двигаться в направлении междисциплинарном, именно в силу особенности высказанных М.М. Бахтиным идей. Во всяком случае, в лингводидактике как междисциплинарной области, а также в риторике перспективны такие направления, как жанровый подход к изучению языка и обучению речи, индивидуальный стиль речи и способы его развития, языковая/коммуникативная личность и подходы к ее воспитанию, речевой поступок и др.
Наталья Тиграновна Пахсарьян, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия)
- Впервые я услышала имя М.М. Бахтина в 1969 г. на лекциях по истории зарубежной литературы Средневековья и Возрождения. Его работу «Творчество Франсуа Рабле» (1965) мы подробно анализировали на студенческом литературоведческом кружке, который вела в Днепропетровском университете Нина Самойловна Шрейдер. Интерес, пробужденный этой книгой, заставил познакомиться и с работой «Проблемы поэтики Достоевского» (изд. 1963). Краткая стажировка во Франции в 1972 г. продемонстрировала интерес и французских филологов к бахтинскому творчеству. Все это стимулировало необходимость постоянно обращаться к опубликованным монографиям, а затем – внимательно изучить статьи ученого, опубликованные в 1975 г. в книге «Вопросы литературы и эстетики».
- Поскольку основным направлением моих научных исследований в аспирантуре и докторантуре была поэтика романа XVII – XVIII вв., особенно важной для меня, помимо книги о творчестве Рабле, была статья ученого «Формы времени и хронотопа в романе», а также те фрагменты и наброски, касающиеся поэтологических аспектов жанра романа, которые были опубликованы в уже упомянутой книге «Вопросы литературы и эстетики» и позднее – в книге «Эстетика словесного творчества» (1979). Этот же круг исследований, расширившийся и уточненный в связи с публикацией собрания сочинений Бахтина, остается важным для меня и до сих пор.
- Думаю, что сегодня актуален широкий круг идей Бахтина, трудно выделить какую-то особенно важную. В этом я вижу особенность современной филологии: если не так давно в активный литературоведческий обиход входили, прежде всего, термины «карнавализация», «хронотоп», «полифонический роман», которые трактовались во многом различно разными учеными, то в настоящее время бытует целостный и комплексный подход к бахтинскому наследию. Современный интерес к интертекстуальности, в частности, выросший первоначально из так переведенного Ю. Кристевой бахтинского «диалогизма», стимулировал более непосредственное обращение к концепциям Бахтина, что позволило не только трактовать интертекстуальность более исторически точно и глубоко, но и выявлять разнообразные формы диалогизма. Современное же обращение к анализу художественного пространства, даже не прибегая к использованию понятия «хронотоп», очевидно пронизано усвоением идей Бахтина.
- Вклад этого ученого в гуманитаристику весьма значителен, он прежде всего, как мне кажется, продемонстрировал органическое слияние философии и филологии, истории культуры и филологии, рассматривал литературные явления в социокультурном контексте, что было подхвачено современной наукой. Бахтину нынче меньше подражают, однако неизменно вдохновляются его концепциями. Не случайно в 2018 г. появился коллективный труд под редакцией немецкого ученого Маттиаса Фрайзе «Вдохновленные Бахтиным: Диалогические методы в гуманитарных науках».
- Для зарубежной науки важную роль изначально играла идеологическая составляющая: так, в США Бахтин – антитоталитарный ученый-либерал, во Франции он – героическая жертва сталинского режима, революционер-анархист и т. п., но это не заслоняло собственно научного значения его трудов. Западные ученые продолжают активно обращаться к изучению наследия Бахтина, говорят об особом диалогическом методе изучения литературы, предложенного ученым. Его идеи широко используются современными компаративистами, исследующими не только литературные взаимосвязи, но и литературу и живопись, музыку, кино, литературу и историю или философию. Идеи Бахтина, кроме того, охотно перерабатывают и используют в антиколониальных и феминистских исследованиях. Это не исключает споров вокруг бахтинских работ: так, в частности, в 2011 г. двое швейцарских ученых – Бронкар и Бота – выпустили монографию под эпатажным названием «Бахтин без маски. История обманщика, коллективного мошенничества и психоза», где, впрочем, речь шла о том, что гениальными учеными представали Волошин и Медведев (в противовес общепринятому представлению о том, что подлинным автором или во всяком случае главным соавтором в их работах был Бахтин), а тексты самого ученого, весьма средней одаренности, маргинала – лишь компиляция из их идей. Сенсация, однако, не удалась, и аргументированные опровержения позиции Бронкара и Бота появились не только в западной, но и в отечественной прессе12. Общее представление ученых о ценности наследия Бахтина оказалось не только непоколебленным, но и породило стремление показать необходимость своего рода «возвращения к Бахтину» (таков, в частности, подзаголовок вышедшего в 2020 г. труда испанского ученого С.М. Диаса «Бахтин в кино и изучение киноадаптаций»13).
- Труды Бахтина настолько разнообразны, богаты идеями, часто содержат в свернутом виде возможности рождения разных концепций, что я не стану прогнозировать направление бахтиноведения в будущем. Скажу лишь, что, по-моему, наследие Бахтина еще долго будет активным в научном обиходе и востребованным для многих поколений ученых – филологов, философов, социологов, психологов и др.
Василий Васильевич Бабич (Витебск, Республика Беларусь)
- В 1972 г. (во время учебы в университете, БГУ, Минск) прочел работу «Проблемы поэтики Достоевского» (3-е изд.), которая произвела на меня очень сильное впечатление, но, возможно, и ранее читал о Бахтине в «Трудах по знаковым системам» или в других изданиях.
- Считаю, что творчество Бахтина обладает неким внутренним единством (при внешнем разнообразии), и с этой точки зрения называть какой-то текст главным было бы, наверное, неправильно. Для понимания этого единства (и смыслов) «общей концепции» Бахтина важны все тексты, включая «Фрейдизм» (Бахтин – Волошинов), «Формальный метод в литературоведении» (Бахтин – Медведев), «Марксизм и философия языка» (Бахтин – Волошинов), «Лекции по русской (зарубежной) литературе» (разных лет и в разных конспектах), интервью Бахтина и воспоминания о нем и т. д. Все же выделяется «Достоевский»: большой текст 1921–1963 (Витебск, Петроград – Ленинград, Саранск), или даже 190714–197115.
- Собственно, все основные идеи (категории) Бахтина в той или иной степени (и форме) восприняты (актуальны) в современном гуманитарном знании: «диалогичность» («интертекстуальность» в версии Ю. Кристевой), «карнавальность», «мениппейность» (нередко оспариваемая, причем иногда в парадоксальной форме: c одной стороны, например, убедительно доказывается, что «Жизнеописание Эзопа» – это настоящая «мениппея», но с другой стороны существование «мениппеи» отрицается или ставится под сомнение), «теория жанров» (сопоставленная Вяч. Вс. Ивановым с «теорией архетипов» К. Юнга), «хронотопичность».
- Если коротко, то Бахтин сказал «новое слово» в философской антропологии, поэтике, литературоведении и др., предложив, в частности, новые подходы для описания системы связей (коннектомики, используя термин нейронауки) в большой (глобальной) культурной традиции: Достоевский в традиции диалогичности (и мениппейности), Рабле и традиция карнавальности, теория жанров.
- Наибольшей проблемой и серьезным препятствием для развития бахтинистики является недостаточная разработанность источников (контекста) творчества Бахтина.
- Со второй половины XX в. складывается новая интегральная наука о сознании (Cognitive science), и бахтинским идеям вполне может найтись ниша в этой науке будущего. В пользу такого предположения говорит, например, то, что в книгах Вяч. Вс. Иванова «Чет и нечет» (1-е изд.), «Нечет и чет» (2-е изд.), определяемых автором как семиотические, но которые можно отнести и к когнитивистике, идеи Бахтина занимают важное место.
Наталья Михайловна Долгорукова, Высшая школа экономики (Москва, Россия)
- Учась на 1-м курсе тогда еще ленинского «педа», я слушала пропедевтический курс по теории литературы, и на одном из первых семинаров нам задали законспектировать книгу М.М. Бахтина о Достоевском. Спускаясь с подружкой по знаменитой винтовой лестнице, я громко ругала библиотечный фонд института за то, что у них всего один экземпляр этой книги, да и тот на руках. И чуть не налетела на профессора, который резко обернулся и резко спросил, чего это я говорю про Бахтина. Профессором был преподаватель с кафедры философии Виталий Львович Махлин, который посоветовал читать Бахтина по начавшим выходить тогда большим черным томам Собрания сочинений и пообещал, что на своем курсе по истории философии, который должен был быть у нас через год, будет речь и о Бахтине. Через год у нас с ним действительно начался разговор о Бахтине, который продолжается до сих пор.
- Для меня это, в первую очередь, не один текст, а скорее целая группа текстов, по которым можно реконструировать «теорию» пародии М.М. Бахтина. Это, конечно, «Рабле» и «Достоевский», в которых немало страниц посвящено осмыслению античных и средневековых пародийных текстов и их фольклорным источникам, а также доклад «Роман, как литературный жанр» (первая публикация – «Эпос и роман»), где среди прочего сказано, что «вообще всякая строгая выдержанность жанра, помимо художественной воли автора, начинает отзываться стилизацией, а то и пародийной стилизацией»; статья «Из предыстории романного слова», где утверждается, что «буквально не было ни одного строгого прямого жанра, не было ни одного типа прямого слова – художественного, риторического, философского, религиозного, бытового, – которые не получили бы своего пародийно-травестирующего двойника, своей комико-иронической contre-partie», потому что «все серьезное должно было иметь и имело смехового дублера». «Слово в романе», с утверждением, что «в мировой литературе вообще безоговорочно сказанных и чисто одноголосых слов, вероятно, очень мало». В «Формах времени и хронотопа в романе» М.М. Бахтин развивает эту мысль применительно к средневековой литературе, а в энциклопедической статье «Сатира» делаются выводы о «возрождающей» и обновляющей функции сатирических и пародийных жанров.
- Пусть понятие «актуальность» останется во введениях к выпускным квалификационным работам. В научно-гуманитарных исследованиях сегодня это понятие имеет примерно тот же смысл, как в советское время – ссылки на последний съезд КПСС.
- Мне не нравится слово «гуманитаристика». Насколько могу судить, Литературоведение XX века оставило нам два по-настоящему больших и влиятельных явлений: это формалисты и М.М. Бахтин. Из формализма, благодаря посредничеству Романа Якобсона, в значительной степени, как известно, развивался французский структурализм, а из Бахтина, благодаря посредничеству Юлии Кристевой, родился Р. Барт, а Автор умер.
- В «Бахтинском сборнике – 4» за 2000 г. есть статья В.Л. Махлина «Москва – Пекин – Бахтин», написанная, можно сказать, в жанре «серьезно-смехового». Там тоже ответы на вопросы анкеты, предложенной китайской исследовательницей из Пекинского университета; они примерно те же. В той статье Виталий Львович отвечает на тот же самый вопрос, и не думаю, что могу ответить лучше, поскольку признаки кризиса как отечественной бахтинистики, так и западной обнаружились уже тогда, на рубеже столетий (если не раньше).
- Мое «видение» связано с мыслями о будущем гуманитарного знания в целом. С одной стороны, похоже, нас ждет «digital Bakhtin», «Big data Bakhtin» и тому подобные достижения эпохи инноваций и цифровизаций. С другой стороны, я думаю и знаю, что были и есть многие читатели, отдельные исследователи, которых поражает и интересует не столько тот Бахтин, о котором «все знают», а тот, снова лишенный «актуальности», который как был, так и остается загадкой и предметом новых исследований.
Wang Hongzhang, Fudan University (Shanghai, China)
- I first heard the name of Mikhail Bakhtin when I came across the Chinese version of his Problems of Dostoevsky’s Poetics published in 1988, the very year when I became a graduate student of Fudan University majoring in comparative literature. I got to know a little later that Professor Xia Zhongyi, my MA and PhD supervisor, was the first Chinese scholar who translated and studied Bakhtin. Professor Xia's article “Dostoevsky's Notes from the Underground and the Problem of the Polyphonic Structure of the Novel”, together with his translation of the first chapter of Problems of Dostoevsky’s Poetics, were published in World Literature, No. 4, 1982.
- I consider Problems of Dostoevsky’s Poetics to be the most important of all his works, because in it he introduces many exceedingly influential concepts later to be interpreted and developed in different ways either by himself or by other theorists and critics so as to accommodate or produce new theories of language philosophy and literary writing, particularly, the novel.
- To a university professor who's currently teaching some theory courses including “Theory of the Novel” to my graduate students, I think particularly relevant today are Bakhtin's ideas about unfinalizability and heteroglossia which he uses to define the reality true both of the human word and world. «He saw in it a degrading reification of a person's soul, a discounting of its freedom and its unfinalizability... Dostoevsky always represents a person on the threshold of a final decision, at a moment of crisis, at an unfinalizable, and unpredeterminable, turning point for their soul».
- Bakhtin's contribution to the humanities are many-sided and far-reaching. Marvelously steeped in and informed about historical and contemporary developments of many human sciences, Bakhtin could manage to exhibit his intellectual creativity and genius in a large body of his works, most of which were completed in difficult times of his personal and academic life. Perhaps just because of the difficulties he experienced, his prodigious academic output should not be treated merely for academic sake. The existentialist implications to be derived from a proper study of the relations between his life and work should lead us to a rethinking of the nature of the human sciences. And the impact of his works on our current and future humanities is yet to be felt.
- Bakhtin Studies has made greater achievements in applying his dialogic theory to studies of language philosophy as well as literary theory and criticism. However, to broaden and deepen Bakhtin Studies in an attempt to fulfil the academic implications and potentials of his theory, we need a cross-fertilization of disciplines, applying his multi-faceted theory productively to more of human sciences.
- My vision for the future development of Bakhtin Studies is to bring together scientists from different fields of research and extend Bakhtin's academic ideas to more disciplines than language philosophy and literary theory. We must escape from disciplinary confines and cross demarcations traditionally and very often artificially established in the early 19th century among disciplines of human studies – humanities, social sciences, and sciences. Two decades of the 21st century have passed. A real disciplinary revolution and liberation is highly desirable at this moment of human history. In this respect, Bakhtin's own life of academic research, trespassing various fields, is particularly relevant and instructive.
Александр Александрович Кораблев, Донецкий национальный университет (Донецк, ДНР)
- На первом курсе филфака в Донецком университете (1974 г.) чтение Бахтина стало филологической инициацией. Такая практика продолжается у нас и сейчас.
- «Искусство и ответственность» – это зерно филологической концепции Бахтина. Также «К методологии гуманитарных наук» – это зерна развития органичного развития бахтинистики.
- Диалог, вненаходимость, ответственность, поступок.
- Прояснение глубинного и корректного взаимодействия филологии и философии. Обоснование инонаучного познания.
- Достойное. Сформировано интеллектуальное сообщество с естественно-органичной структурой: ядро специалистов, которые исследуют и развивают идеи Бахтина сообразно его методологии, и сферы исследований, где происходит трансформация и/или адаптация этих идей с иных теоретических позиций.
- Осмысление наследия Бахтина как целостности; системное изучение его идей и понятий; активация его учения в полифонии современного гуманитарного знания.
Валентина Павловна Фурманова, Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева (Саранск, Россия)
- Я имела возможность в своей юности слушать лекции М.М. Бахтина по античной литературе (1-й курс, 1958 г., Саранск, Мордовский государственный университет), видела этого человека, с трудом ходящего и много курящего. Но!.. он входил в аудиторию, спокойно садился и начинал говорить. Вот тогда для меня открывался удивительный мир событий и слова. Сдавала экзамен и очень волновалась, не умела широко и свободно излагать вопрос, но получила пятерку. Лишь со временем, занимаясь научной работой, я поняла значение работ М.М. Бахтина о речевом высказывании, как глубоко он обосновал эту лингвистическую категорию и предвосхитил труды современных зарубежных ученых в семантике и прагматике текста. Во время обучения в Германии и на международных конференциях, представляя свой город и университет, я слышала с гордостью имя – так это ваш Михаил Бахтин. Еще немного. В 1995 г. выступила переводчиком доклада австрийского ученого на пленарном заседании на Международном конгрессе, посвященном столетию со дня рождения М.М. Бахтина в Саранске. В моей научной работе чрезвычайно важными стали такие труды, как «К философским основам гуманитарных наук» и «Проблема речевых жанров».
- Во-первых, концепция Бахтина о высказывании, которое выступает реальной единицей речевого общения, характеризующееся сменой говорящих, завершенностью. Эта завершенная целостность высказывания, определяется тремя моментами (или факторами), неразрывно связанными в органическом целом высказывания: 1) предметно-смысловой исчерпанностью; 2) речевым замыслом или речевой волей говорящего; 3) типическими композиционно-жанровыми формами завершения. Особо отмечу такие признаки, как экспрессивная интонация, обращенность к кому-либо или адресованность. Во-вторых, диалогическая концепция культуры. Эти идеи чрезвычайно важны для адекватности общения.
- Вклад заключается в интерпретации важных положений гуманитаристики, теории текста и высказывания, диалогики текста, речевого поступка и т. д. «Гуманитарные науки – науки о человеке в его специфике, а не о безгласной вещи и естественном явлении. Человек в его человеческой специфике всегда выражает себя (говорит), то есть создает текст (хотя бы и потенциальный). Там, где человек изучается вне текста и независимо от него, это уже не гуманитарные науки (анатомия и физиология человека и др.)», – отмечает Бахтин в работе «Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках»16.
- Междисциплинарная направленность исследований, качественно новый подход к высказыванию как речевой единице в рамках новой научной дисциплины – металингвистики, которую ученый планировал разработать.
- Нам предстоит работать над развитием коммуникативистики, использованием медийных текстов, дискурса и их интерпретации. Продолжение диалогической концепции культуры представляется актуальным в развитии межкультурного диалога, теоретических и прикладных проблем межкультурной коммуникации как нового направления в развитии гуманитарного знания с включением разножанровых текстов, дискурсов, представляющих различные культуры.
Александр Геннадьевич Лисов, Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины (Витебск, Республика Беларусь)
- Вопрос этот сегодня уже ставит в тупик – кажется, имя ученого было известно всегда, его должен знать всякий образованный человек. И все же не будем лукавить. В студенчестве, которое пришлось на вторую половину 1970-х гг., я занимался совсем не историей литературы, и лишь интерес к культурной жизни Витебска послереволюционного времени привел меня к необходимости присмотреться к тем именам, которые были в то время связаны с деятельностью Витебской народной консерватории. В архивных документах среди них был назван М.М. Бахтин. Имя ученого тогда было оценено узким кругом специалистов. Познакомиться с его научными работами удалось уже в 1980-е гг., когда в стране стала меняться общественная ситуация, постепенно начали переиздаваться книги авторов, которых мое поколение для себя открывало. Одним из таких открытий по праву можно считать М.М. Бахтина. Тогда же стало приходить осознание значимости его вклада как одного из главнейших достижений гуманитарии XX столетия, начали публиковаться исследования о нем. Таким образом, мой путь к Бахтину был, в известном смысле, путем вслед, следованием времени перемен. Рубеж 1980–1990-х гг. отмечен усилиями энтузиастов, стремившихся возвратить имя ученого в массовое сознание. Ведь в Витебске он жил, приобретал опыт профессиональной и педагогической деятельности, работал над своими ранними сочинениями. Группа подвижников-педагогов местного университета формировалась вокруг издававшегося с 1992 г. журнала «Диалог. Карнавал. Хронотоп. Журнал научных разысканий о биографии, теоретическом наследии и эпохе М.М. Бахтина». Мне посчастливилось быть близким к этим людям, что упрочило мой собственный интерес к ранней биографии.
- Самым важным текстом М.М. Бахтина для меня была и остается его книга о Рабле – самый зрелый и завершенный его труд. В нем, как известно, подробно разработана концепция карнавальной культуры. Она обогатила литературоведение, еще более культурологическую и философскую мысль. Переиздание книги 1990 г. оказалось очень своевременным. Изложенные в ней идеи не перестают быть актуальными и сегодня. О ее значении очень много написано, сказано.
- Две концепции, с которыми связано имя мыслителя, несомненно, не перестают быть сегодня актуальными. Первая – концепция диалогизма. Диалогическая философия в западных исследованиях традиционно связывается с его именем, и это, безусловно, так. В ее разработку он внес существенный вклад. Вклад этот принципиален. Не будем, однако, забывать, что в философии ХХ столетия Бахтин лишь один из тех, кто развивал диалогическое направление. Другая – концепция карнавальной культуры, которая приобрела методологическое значение и поэтому вышла за пределы теории литературы, приобрела философскую значимость.
- Идеи, о которых сказано в п. 3, ставят Бахтина в ряд крупнейших ученых-гуманитариев ХХ в. Сегодня продолжают оставаться важными вопросы о том, как формировались его идеи, как они эволюционировали, как были связаны с идеями ученых его круга, какой научный опыт гуманитарного знания их определил. Попытки исследовать проблемы предпринимают те, кто занимается изучением наследия Бахтина в настоящее время. В конечном счете, осмысление его вклада в науку позволит развивать это наследие.
- За три последних десятка лет российское бахтиноведение продвинулось в важных направлениях, осуществило ряд принципиальных работ, которые позволяют более глубоко осмыслить его научные достижения: издано первое научное комментированное собрание сочинений ученого, переизданы отдельно его главные труды, а также документальные источники, вышли несколькими изданиями «Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным», являющиеся ценным источником биографической информации, имеется опыт его биографии, опубликован ряд публикаций, посвященных «бахтинскому кругу» и проблеме авторства спорных текстов. Не все воспринимается исследователями однозначно. Однако это обстоятельство, как раз, указывает на возможные перспективы, открывающиеся перед будущими учеными.
- Делать прогнозы сложно. Может показаться, что интерес к Бахтину затухает. Достижения науки сделали отношение к ученому и его наследию более спокойным и взвешенным. По моему мнению, первое и главное дело ближайшего будущего – издание фундаментальной научной биографии ученого, которая позволила бы суммировать и объективно оценить весь накопленный опыт изучения жизни и научного наследия, осторожно подойти к решению выявившихся проблем.
Полагаю, что нас ожидают в скором будущем исследования, которые позволят в новых ракурсах изучить связи идей Бахтина с филологической и философской мыслью его времени, работами ученых его круга.
Надеюсь на новые архивные находки, в том числе имеющие отношение к архиву самого Бахтина. Это, вероятно, поможет по-новому подойти к интерпретации его биографии и научного наследия. Открывая склонность Михаила Михайловича к мистификациям, мифотворчеству, полагаю, что нас, несомненно, ждут еще открытия.
Алексей Александрович Холиков, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия)
- С М.М. Бахтиным меня (разумеется, в студенческие годы) впервые познакомил В.Е. Хализев. Он «контрабандой» читал нам курс истории отечественного литературоведения. Между тем в расписании стояла «Теория литературы», которую мы и так могли освоить благодаря его же учебнику. Бахтина он не просто ценил. Причислял к своим «заочным учителям», чье влияние оказалось судьбоносным. Сумел и нас увлечь. Причем не только трудами о Достоевском и Рабле (литературоведчески значимыми), но и масштабом личности этого выдающегося философа. Многое из того, что я впервые услышал о Бахтине от Хализева, позднее вошло в его мемуары «В кругу филологов».
- Один текст не назову. Важнейшими для себя считаю работы 1920-х гг. по философской эстетике, собранные в первом томе Собрания сочинений Бахтина. В них – зримая связь эстетического и этического. Это начало пути не только в интеллектуальной биографии конкретного мыслителя, но и основа для методологического самоопределения любого, кто толкует об искусстве слова. Во фрагментарности, незавершенности таких текстов, известных под заглавиями «К философии поступка» или «Автор и герой в эстетической деятельности», кроется подстрекающая сила к возвращению и вопрошанию, к ответственному диалогу с самим Бахтиным.
- Если ухватиться за собственно научную «актуальность», то это идеи Бахтина, сформулированные в работах по металингвистике. В них многое перекликается с тем, что, вероятно, объединяет отечественную и западную гуманитарную мысль, обращенную к проблемам текста, речевых жанров, теории повествования и коммуникации в целом.
- Понимая «гуманитаристику» широко, т. е. не сводя гуманитарное знание исключительно к научным формам, отмечу не «термины» и «концепции», ассоциирующиеся с Бахтиным, а его ценностный диапазон, причастность нравственно ориентированной философии жизни и утверждение принципов, чуждых агрессивной дегуманизации (будь то искусство, наука или повседневность) и противящихся «односторонней серьезности».
- Перефразируя известный ответ Бахтина на вопрос редакции «Нового мира», можно сказать, что «бахтиноведение», в сущности, еще молодая наука. Ее границы остаются открытыми для философии, филологии, культурологии, истории и других гуманитарных дисциплин. Конечно, междисциплинарность «без берегов» чревата утратой собственного предмета изучения. Однако в случае с Bakhtin studies личность мыслителя служит необходимым конституирующим стержнем, а потенциал его творческого наследия столь внушителен, что о кризисе говорить рано.
- Когда-то мне уже приходилось говорить о том, что жизненный и творческий путь таких исследователей, как М.М. Бахтин, – это в свернутом виде история отечественной науки о литературе ХХ в., поэтому лично мне хотелось бы видеть новые работы по уточнению точек взаимодействия Бахтина и его идей с российским литературоведением (как минимум) в пространстве «большого времени». Убежден, что главным событием станет выход «Бахтинской энциклопедии», которая задаст вектор будущего бахтиноведения. Желаю ее вдохновителям и созидателям успешного завершения проекта!
Татьяна Генриховна Юрченко, Институт научной информации по общественным наукам РАН (Москва, Россия)
- Когда в 1975 г. вышла книга «Вопросы литературы и эстетики», я купила ее вполне осознанно, потому что до этого уже слышала откуда-то про книгу о Достоевском, но еще не читала. Зато точно помню, что о книге «Формальный метод в литературоведении» я впервые узнала на втором курсе филфака МГУ на семинаре В.Н. Турбина осенью 1976 г., как и о том, что Бахтин выпустил книгу под чужим именем. У Владимира Николаевича был ксерокс этой труднодоступной в те времена работы, и желающих ознакомиться с текстом он приглашал к себе домой. Я стеснялась напрашиваться к нему в гости и раздобыла ксерокс уже значительно позже.
- Мне наиболее близки филологические исследования Бахтина – о судьбах слова, проблеме жанра… Они помогли мне по-иному увидеть многие проблемы, которые прежде казались неразрешимыми, а их существующие решения представлялись поверхностными и неубедительными. В частности, подход к жанру как «зоне и полю ценностного восприятия и изображения мира» позволил мне кое-что понять в жанре идиллии, которой я одно время занималась, понять, например, что общего у буколической поэзии Феокрита с повестью «Старосветские помещики» Н.В. Гоголя. Первая купленная мною книга – вся в закладках.
- Идеи Бахтина, как мне кажется, продолжают оставаться насущной задачей для понимания. В этом – их актуальность. Я бы затруднилась назвать что-то устаревшим или утратившим свое значение.
- Вклад Бахтина в гуманитаристику – методологический: диалогизм как мировоззренческая переориентация с традиционных и глубоко укоренившихся в сознании субъект-объектных отношений на субъект-субъектные открывает возможность иной гуманитаристики, пока, однако, – только возможность.
- Бум Bakhtin studies явно прошел, повсеместное цитирование Бахтина (как прежде – классиков марксизма-ленинизма), кажется, тоже. При этом Бахтина изучают в высшей школе, причем иногда весьма навязчиво – так, что у выпускников некоторых вузов желания обращаться в дальнейшем к трудам мыслителя не возникает. (Забавная, но весьма показательная деталь: в конце 1970-х гг. на филфаке МГУ, где – как многие годы и до и после – «царицей полей» была «Теория литературы» Г.Н. Поспелова, на семинар В.Н. Турбина отправляли иностранных студентов, желавших заниматься структурализмом). Однако, может быть, все это только к лучшему.
- Кажется, сейчас наступает или скоро наступит такой период, когда бахтинистика, перестав быть «модной», снова станет уделом немногих, озабоченных не прикладным использованием идей мыслителя, а «медленным чтением» собственно текстов Бахтина, постижением их генезиса и контекста. С завершением в 2012 г. издания первого научного Собрания сочинений Бахтина для этого открываются новые перспективы.
Ли Синьмэй, Фуданьский университет (Шанхай, Китай)
- Впервые я услышала имя М.М. Бахтина в студенческие годы, но познакомилась с его работами только в аспирантуре, когда у нас была открыта специальная дисциплина по творчеству Бахтина.
- Все тексты, которые связаны с литературоведением, очень важны. К примеру, «Проблемы поэтики Достоевского», «Автор и герой в эстетической деятельности», «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса».
- Идеи карнавализации, отношения автора и героя представляются мне наиболее актуальными сегодня.
- Основной вклад Бахтина в гуманитаристику заключается в том, что он очень подробно и основательно проанализировал много литературных произведений русской и зарубежной классики. Это очень полезно для литературоведов и критиков, особенно для тех, кто только начал учиться литературной критике.
- В Китае немало исследователей и ученых интересуются Bakhtin studies, но пока еще это направление недостаточно изучено. Нужно приложить больше усилий.
- В будущем бахтиноведение будет развиваться быстрее и лучшее, чем сегодня, ведь больше и больше студентов и аспирантов узнают об идеях Бахтина, читают его работы и применяют его теории в своих диссертациях и научных статьях.
Оксана Анатольевна Кравченко, Донецкий национальный университет (Донецк, ДНР)
- Мое первое знакомство с М. М. Бахтиным произошло на первом курсе учебы в Донецком университете. Статья «Эпос и роман» обсуждалась на практическом занятии по «Введению в литературоведение». Понятия «абсолютная эпическая дистанция», «жанровый костяк романа», «фамильярный контакт с действительностью»… все эти узнаваемо-бахтинские формулировки давали нам, первокурсникам, почти физиологическое ощущение вкуса филологии как науки, как исследования, столь не похожего на пресную риторику школьных сочинений. В дальнейшем, на студенческих конференциях и семинарах кафедры теории литературы идеи М.М. Бахтина, казалось, конденсировались из самого воздуха аудиторий как некое «наше все». Донецкая филологическая школа в 1990–2000-е гг. была своеобразной оранжереей бахтинской мысли, климат-контроль в которой поддерживала целая команда преподавателей-исследователей во главе с Михаилом Моисеевичем Гиршманом и Владимиром Викторовичем Федоровым. Поэтому настоящим потрясением, переходом из инфантильно-ученического в трезво-критическое состояние стало для меня деконструктивистское довольно агрессивное «развенчание» бахтинских идей, а вместе с ними и теории целостности литературного произведения, с которыми я столкнулась в 1999 г. в Новосибирске на летней школе для молодых ученых. Это создало тот необходимый проблемный фон восприятия, который до настоящего времени стимулирует мое перечитывание и вопрошание Бахтина.
- Сомневаюсь, что можно указать на какой-то один, важнейший и абсолютный текст, учитывая многовекторность воздействия М.М. Бахтина на гуманитарную мысль. Абсолютной ценностью обладает весь корпус бахтинских текстов, заряженных почти пандемической силой проникновения. Однако для меня лично самой главной работой является «Автор и герой в эстетической деятельности»: это та «почка, где дремлет форма» всех последующих эстетических – что важно подчеркнуть – построений М.М. Бахтина. Отмечу, что в моей научной биографии определяющую роль сыграл восходящий к идеям «Автора и героя…» трактат 1924 г., вышедший под данным публикаторами названием «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве». Положения этого трактата легли в основу диссертаций «Гармония как основа единства литературного произведения» (2000) и «Категория возвышенного: архитектонико-композиционные модификации» (2012). Мой научный руководитель профессор М.М. Гиршман – человек, усилиями которого донецкая теоретико-литературная мысль обрела «лица необщее выраженье», любил повторять, что филолог мыслит масштабом от слога до Бога. Я считаю, что М.М. Бахтин в споре с материальной эстетикой, приверженной «слову» и приемам его обработки, указывал на необходимость видеть за словом-материалом Слово как силу, задающую принципы мироустройства. В бахтинском понятии эстетического объекта и структурирующих его форм утвержден тот самый требуемый масштаб филологии, которой оправдывает ее перед лицом вечности.
- Если говорить об актуальности сегодняшнего дня, то такой идеей мне представляется проблема диалога в том ее заостренном звучании, которое выразил О. Розеншток-Хюси: «Мы найдем либо общий язык, либо общую погибель».
- Я думаю, что значение Бахтина не может измеряться «вкладом в гуманитаристику». Здесь должна быть оптика принципиально иной онтологической природы, обозначенной у самого Бахтина как «последнее целое».
- Мне вспоминается, что В. Шкловский, говоря о Достоевском, назвал его «одним из величайших открывателей мира». М. Бахтин со своим «полифоническим» Достоевским – тот «величайший», кого открывает и изучает весь мир. Главная особенность современного изучения Бахтина – колоссальный географический охват – от Бразилии до Китая. Бахтин, что называется, шагает по планете.
- Будущее развитие бахтиноведения мне видится в увеличении влияния тех национальных исследовательских сил, которые до настоящего момента находились в тени российско-европейско-американской бахтинистики. Будущее бахтиноведения – за Латинской Америкой и Востоком. Из опыта общения с коллегами из Тегеранского университета могу сказать, что здесь читают Бахтина как некое герменевтическое послание, одномоментно и комплексно развертывающее свои смыслы в литературоведении, лингвистике, социологии, политологии. Переводы Бахтина на язык Саади сами по себе демонстрируют ситуацию невозможности окончательного слова о мире, в котором «все еще впереди…».
Galin Tihanov, Queen Mary University of London (London, United Kingdom)
- It must have been during my studies at Sofia University, in the mid-1980s. I gradually became an avid reader of Bakhtin's scholarly and philosophical prose; by 1994, when I began my second doctorate, he had emerged as a truly important thinker for me.
- I always hesitate to privilege one particular work in Bakhtin's oeuvre over the rest of his writings. His essays on the novel are very powerful, as is, in different ways, his early text on the author and hero in aesthetic His very late writings, in which he proclaims the festival of homecoming to be celebrated by every meaning, are equally significant. Perhaps I am inclined to see his book on Rabelais as his most important work after all. Not only does he dismantle in that work the opposition between novel and epic, but he also makes the case for a philosophy of culture that rises above the constraints of the literary or the philological and dwells on laughter and everyday life as its proper manifestations. The Rabelais book is mesmerizing in other ways too; it is an early example of what has recently become almost a vogue: the discussion of literature and culture from the perspective of “deep time”, or as Bakhtin's contemporary, Fernand Braudel, would call it, longue durée. Bakhtin, of course, was drawing here on Marr and Freidenberg, and he was also in dialogue with Cassirer, but his is a singular and truly seminal achievement. One should also mention that Bakhtin's Rabelais book foreshadows later preoccupations with world literature. Bakhtin appears to be relying on a Western canon to validate his theses; the Rabelais book begins with a comparison of Rabelais with Voltaire, Shakespeare, Cervantes, etc. But, in truth, Bakhtin is more interested in the literature and culture of premodernity, the time when Europe is not yet a dominant force, before the continent begins to see itself as the centre of the world. Bakhtin is thus actually a thinker much more fascinated by the subterranean cultural deposits of folklore, of minor discourses, of ancient genres, of anonymous verbal masses – all of which long predates European culture of the age of modernity (beginning roughly with the Renaissance), which is the only dominant European culture we know. Even Rabelais' novel interests him for its more traditional, pre-modern, folklore-based layers. Bakhtin's is a flight away from Eurocentrism not by writing on non-European cultures, but by writing on pre-European cultures, on cultures that occupy the old shared territory of folklore, rites, and epic narratives, before Europe even begins to emerge as an entity on the cultural and political map of the world: his is an anti-Eurocentric journey not in space, but in time.
- I suppose his insistence on large-scale, overlapping typologies of culture, and his acute awareness of the self-estrangement of language and culture in the process of their social distribution and Bakhtin's work has developed powerful tools that allow us to address cultural hybridity and to cast the history of marginal cultural forms as evolving towards domination: the story of the novel itself is a story of reversal; it is the story of a genre that ascends from being an underdog of cultural history to a „colonizer‟ of literature, as Bakhtin puts it (it is interesting that he should be speaking in those terms), a genre that takes over and permeates all other literary genres. Bakhtin arrived at this idea not without help from the Russian Formalists, notably Shklovsky and Tynianov. Bakhtin's work thus holds significant potential to invigorate debates in postcolonial studies, even now as postcolonial theory moves to a phase where it is more interested in postcolonial ecology, cultural transfers, or critically reflects on its own past and seeks to shed older frameworks by embracing the “Global South” agenda.
- I have been asked this question in the past and have tried to answer it with an empahsis on the early Bakhtin, because this is a segment of Bakhtin's legacy that is less frequently claimed, whereas I tend to think that it deserves to be seriously appropriated because of its considerable potential to speak to the humanities, and also to what the French call the “human sciences”. Bakhtin, especially in his early work, is marvellously seminal on the question of otherness, and what it actually means to accept the Other. We need to remember, perhaps, that he begins as a thinker motivated by problems of ethics: What is at stake in the process of creative writing? What does „ethical‟ creative writing entail? How can the writer shape his/her hero (the Other), without intrusion and without depriving the Other of otherness? The whole notion of dialogue in the Dostoevsky book comes as a response to this earlier set of questions which Bakhtin asks in his long essay “Author and Hero”. Equally, the early Bakhtin is vividly interested in the idea of boundaries; he sees them as porous and yet not entirely fluid. Bakhtin's work could help us rethink Derrida's notion of hospitality and, indeed, most of the literature that has appeared in the wake of the revival of cosmopolitanism in the last 20 years or so, and with this also the problematic of exile and migration (his brother, Nikolai, was himself an exile in France, later an émigré in England). The early Bakhtin is an inspiration for democrats (dialogue; polyphony), but the later Bakhtin, particularly with the Rabelais book, retreats into a corporative vision of solidarity without an underlying liberal belief in the autonomy of the individual, without a dialogue with, or respect for the private world of, the individual.
- Well, we finally have the invaluable edition of Bakhtin's Collected Works, which was completed a few years ago in Moscow. This edition is a veritable monument to scholarship, something generations of Bakhtin scholars would benefit from. We also have several milestones of extremely important and stimulating work on Bakhtin, above all the books, translations, and biographies by Caryl Emerson, Katerina Clark, Ken Hirschkop, and the late Michael Holquist. We also have the helpful research infrastructure of the Bakhtin Centres at Saransk and Sheffield. These are very positive developments. When I go to various Bakhtin Conferences around the world, I cannot help noticing that sometimes we still tend to work with Bakhtin's concepts as if they were monoliths whose validity accrues independently of a particular historical and cultural context. It seems to me that the best way to resist this is to always ask the question about the limits of Bakhtinian theory, the limits of its applicability: try to contextualize his categories and see how much a different cultural context would resist these categories, and how much it would allow us to do with them; try to confront his theory with your own cultural history and your own aesthetic formations, and see how far it goes before it needs reworking, supplementing, qualify
- This really ought to be a question, as I read it, about how one could develop further Bakhtinian theory. In a sense, by staging the encounters I have outlined when answering the previous question; but also by developing a conceptual apparatus that responds to new global developments. I recently had a doctoral student from Sao Paulo who was examining Bakhtin's theory of discursive genres, and what happens to it in Brazil in the age of facebook, twitter, and other social media. Or think of India and its powerful ancient literary Bakhtin's major opposition, between novel and epic – which to him is also an opposition between the dialogical and the monological – would not quite work when explaining the repertoire of genres in the literature written in Sanskrit. It is only through productive confrontations with other cultural constellations that a theory can be tested, modified, and developed. The impulse emanating from Bakhtin's conceptual framework may be carried forward in these encounters, but only as an impulse.
Владимир Иванович Лаптун, Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева (Саранск, Россия)
- Впервые имя М.М. Бахтина я услышал осенью 1987 г., когда мне предложили возглавить лабораторию музейного дела МГУ им. Н.П. Огарева. По долгу службы мне приходилось встречаться с бывшими сотрудниками университета и интервьюировать их относительно видных ученых вуза. Так я познакомился с Валентиной Борисовной Естифеевой, которая долгие годы работала с Михаилом Михайловичем на одной кафедре и была его соседкой по дому. Она очень много рассказывала о его нелегкой жизни и его научных трудах. Благодаря Валентине Борисовне я познакомился с удивительными книгами Михаила Михайловича о Достоевском и Рабле. Однако больше всего меня заинтересовала его биография, тем более, что он прожил в Саранске почти четверть века. С целью изучения саранского периода жизни ученого я начал работать в местном архиве, который, к моему удивлению, практически не был изучен исследователями. Дальше – больше. В 1989 г. мне удалось познакомиться с наследниками М.М. Бахтина – московскими литературоведами С.Г. Бочаровым и Л.С. Мелиховой. Произошло это случайно. В феврале 1989 г. я встречался в Москве с художником Ю.И. Селиверстовым по вопросу приобретения для университета его знаменитого портрета (офорта) М.М. Бахтина. Встречались у него в мастерской на ул. Огарева (если мне не изменяет память). Справедливости ради отметим, что эту встречу, по моей просьбе, организовал И.Г. Дудко, в то время аспирант МГУ им. Ломоносова, а ныне – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России. У Селиверстова мы были вместе и разговаривали более двух часов. Юрий Иванович много рассказывал о Бахтине, о встречах с ним, о том, как создавался этот портрет. Затем же неожиданно сказал, что нам обязательно нужно встретиться с С.Г. Бочаровым и Л.С. Мелиховой, и тут же позвонил Сергею Георгиевичу. Тот с радостью согласился и назначил встречу на следующий день в ИМЛИ. Так я познакомился с Бочаровым, а чуть позже, уже в Саранске, с Леонтиной Сергеевной Мелиховой. Завязалась дружба, и мы начали обмениваться информацией о Михаиле Михайловиче.
- Как один из биографов М.М. Бахтина, я прежде всего ценю те его тексты, в которых слышен голос не Бахтина-мыслителя (книги о Достоевском и Рабле, работы о романе, речевых жанрах и другие исследования), а Бахтина-человека. Это, конечно, его письма, записки и короткие фрагменты размышлений. В саранских архивах мне посчастливилось найти и протоколы кафедры литературы, собственноручно написанные Бахтиным, и целый ряд других документов, связанных с ним. И, конечно, самый замечательный текст, который Бахтин оставил своим исследователям, – его беседы с В.Д. Дувакиным. В них живой голос Бахтина можно расслышать и на магнитофонных пленках, и под книжной обложкой.
- Думаю, не буду оригинален, если скажу, что наиболее важной для сегодняшнего дня мне кажется бахтинская идея диалога.
- Сегодня, когда кончается второе десятилетие третьего тысячелетия, то, что Бахтин изменил лицо современной гуманитарной науки, очевидно всем, хотя не все в состоянии принять это как истину. Чуть перефразируя Бахтина и Достоевского, скажу, что мир, в который пришел Бахтин, никогда не будет прежним.
- За последние сорок лет бахтиноведение превратилось в мощную международную отрасль современной гуманитаристики. Профессиональные переводы трудов М.М. Бахтина, развернутые комментарии к ним появились на самых разных языках – от английского и португальского до китайского и японского. Филологи, философы, культурологи, историки и педагоги не только предпринимают попытки системно осмыслить наследие Бахтина, но и широко используют его открытия в собственных областях, приближаясь к построению комплексных исследований, основанных на идеях Бахтина.
- Я думаю, что одной из задач бахтиноведения в ближайшем будущем остается создание научной биографии М.М. Бахтина, в основе которой будет лежать продуманный анализ всей совокупности его идей, реализованных в его трудах, и нового архивного материала, обнаружение и введение в научной оборот которого даст возможность заполнить все еще имеющиеся пробелы в жизнеописании мыслителя.
Craig Brandist, University of Sheffield, Bakhtin Centre (Sheffield, United Kingdom)
- This must have been when I began studying for an MA in Critical Theory at Sussex University in 1987. This was at a time when poststructuralism and postmodernism was fashionable and receiving a lot of attention, but I found these ideas to be unconvincing and problematic. On becoming acquainted with the flawed English translations of Bakhtin, Medvedev and Voloshinov I discovered there were other ways of addressing some of the same questions in a more responsible fashion. I quickly became aware I needed to read the Russian originals and so began to learn the language at that time. I made enough progress to write one of the earliest PhD dissertations on the sources of the ideas of the Circle, which I partially completed while living in St. Petersburg in the early 1990s.
- Bakhtin's essays on the novel of the 1930s seem to me his most important works. This is because here Bakhtin moved beyond his early idealist philosophy to deal with concrete cultural phenomena and questions of the historical development of language and literature. He was able to bring the strengths of Russian scholarship about language and literature into dialogue with German and Austrian philosophy, creating something that combined them all but was a unique contribution. Reading these exploratory works now there is still much of value that lead us to go beyond the work he produced, overcoming their limitations and realizing some of the potentials there. The sociological dimensions of these texts are particularly important, along with the attention to the struggles within the larger movements of the time.
- The ideas about dialogue as a cultural and social phenomenon have an ongoing significance, especially in overcoming the persistently monological formulations we find in much cultural theory in general and postcolonial theory in particular. These ideas have significant importance beyond literary studies, in intellectual history more general. The ideas about the rootedness of cultural forms in the often anonymous, mass culture of premodern times, before our current spatiotemporal categories had been formed (ie notions of nation, East and West and the like) have much to commend themselves in the current conjuncture. The notions of разноречие, разноязычие, многоязычие and the like remain extremely fertile, though we need to make sure these are rigorously specified and historicised.
- A foregrounding of the shifting and mutually-implicated nature of social consciousness and the sociocultural forms in which they An ability to account for the shared nature of our symbolic resources, recognizing the way in which this undermines psychologism, while maintaining a sense of agency. A number of resources to resist reductionism.
- At a transitional point between the appearance of the collected works and full access to the archive. We know much more than previously and we now have an idea of what we still don’t know. We now have a clearer understanding of the unique and irreducible contributions of the various members of what we now call the „Bakhtin Circle‟, and a greater understanding of the contours of the intellectual field within which Bakhtin operated. We also have a pretty good understanding of the philosophical background, but we need unhindered and complete archival access to specify the exact intersections more adequately.
- Following on from the above, we need to pay attention to the archival materials. We need to maintain a critical approach and avoid hagiography. We need to celebrate the incompleteness of Bakhtin's ideas for what they tell us about active, dialogic thinking and how we can move beyond the work he and others did in the past. We need to view Bakhtin as engaged with other thinkers of a similar stature, not as some kind of guru. We need to see Bakhtin's work as full of pregnant insights, problems and questions and not a set of ready-made formulations that can simply be applied. We need to engage with the works with respect but not reverence.
Татьяна Евгеньевна Автухович, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (Гродно, Республика Беларусь)
- К сожалению, достаточно поздно, примерно в 1981 г. Это было обусловлено двумя факторами. С одной стороны, спецификой предмета, с изучения которого начинался мой путь в науке: русская литература XVIII в. вплоть до недавнего времени находилась на периферии исследовательского внимания, вызывала интерес в основном либо как объект архивных поисков (школа Пушкинского Дома, которая для меня значит очень много), либо как объект культурологического осмысления (в этом отношении работы А.М. Панченко и сегодня для меня остаются образцовыми). С другой стороны, в Белоруссии по сей день развиваются историко-литературные исследования, в то время как теоретическое литературоведение не слишком в почете, а что уже говорить о 70–80-х гг. прошлого века, когда попытки говорить о поэтике художественного произведения квалифицировались как проявление «формализма», причем данное слово произносилось с соответствующей интонацией, отсылающей к печально знаменитым проработкам сталинской эпохи! Поэтому судьбоносным для меня было появление на кафедре русской и зарубежной литературы Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, где я начала работать, Игоря Вячеславовича Егорова, последовательного сторонника и пропагандиста работ Бахтина. Ученик известного теоретика Михаила Моисеевича Гиршмана, Игорь Вячеславович принес на кафедру идеи мощных литературоведческих школ – Донецкой, где учился, и Самарской, где до этого работал. Именно от Егорова я услышала впервые о диалогическом сознании, о теории карнавала и многом другом. С этого момента началось мое знакомство с наследием Бахтина и постепенный дрейф в сторону теории литературы, прежде всего исторической поэтики, взлет которой в последние десятилетия во многом обусловлен идеями Бахтина и его последователей.
- Думаю, ответ должен быть с уточнением «для кого и в какой ситуации?». Если говорить о значимости для моей профессиональной (научной) работы, то, конечно, это работы Бахтина по теории романа, отталкиваясь от которых, в докторской диссертации я рассматривала процесс взаимодействия риторического и формирующегося романного мышления в русском романе XVIII в. Безусловно, бахтинская идея диалогической сущности художественного творчества, шире – человеческого сознания, определила мое понимание природы экфрасиса, которое легло в основу книги об экфрасисах Иосифа Бродского. Если говорить о личностном самоопределении, то наиболее значимыми стали, с одной стороны, книга о Рабле, с другой – книга о поэтике Достоевского с их идеями свободы, диалога как поведенческой модели и отрицания официоза. В последнее время, в связи с кризисом литературоцентризма и в целом христианской эпохи, снова осознаю глубокий смысл работы «Искусство и ответственность». Резюмируя, можно сказать, что Бахтин остается «вечным спутником» на протяжении всей моей жизни.
- Известно, что основные идеи Бахтина формировались в полемике с общественно-политическим контекстом его времени. На мой взгляд, именно этот полемический подтекст и гуманистический смысл бахтинского наследия является сегодня актуальным, обнаруживаясь в самых неожиданных реализациях. Так, уже писалось о том, что в событиях в Беларуси после прошедших в августе 2020 г. президентских выборов ярко проявилась бахтинская теория карнавала: взрыв креатива, в основе которого веселое отрицание изжившей себя лживой официальной системы, ее пародийное развенчание, прорыв к иной, подлинной, честной жизни, к иному устройству общества. При этом если основные положения теории вскрывали истинную сущность происходивших на улицах белорусских городов событий, вводя их в исторический и культурный контекст, то, в свою очередь, сами события подтверждали системную целостность, продуктивность и объясняющую силу теории. Опять-таки небывалую значимость и актуальность для современного мира приобретает идея диалога. К сожалению, надежды диалогистов начала ХХ в. на становление конвергентного менталитета не оправдались: мир снова разрывают противоречия, на смену радикально индивидуализированному сознанию так и не пришло диалогизированное сознание, – напротив, и на уровне государственной политики, и на уровне частной человеческой жизни установка на достижение «диалога согласия» (М.М. Бахтин) остается лишь декларацией, а не реальностью мышления и поведения, более того, действительность начала XXI в. демонстрирует нарастание процессов автономизации личности, индивидуализма, национального эгоизма и культурного изоляционизма. Перефразируя известные слова Леви-Стросса о том, что двадцать первый век будет веком гуманитарных наук, или его не будет, можно сказать, что только диалог может спасти человечество от гибели.
- Если одним словом, то – определяющее. Не будет большим преувеличением сказать, что взлет гуманитарной мысли во второй половине ХХ в. был обусловлен, прежде всего, публикацией работ Бахтина. Философия, психология, педагогика, культурология, филология и история – все науки гуманитарного цикла пережили своего рода эпистемологический взрыв, результатом которого стали «повороты» гуманитарной мысли последних десятилетий прошедшего столетия: онтологический, антропологический, лингвистический и феноменологический. Речь в данном случае идет не о прямой причинно-следственной связи, а об усвоении диалогизма как основополагающего методологического принципа, что в свою очередь обозначило до сих пор не достигнутую идеальную цель развития науки в целом – ее гуманитаризацию.
- Наиболее значимым событием в последние годы мне представляется издание собрания сочинений Бахтина.
- Мне кажется, период первоначального освоения Бахтина уже завершился: определен перечень ключевых идей и понятий, эти понятия стали своего рода готовыми словами, часто утратившими авторство, произошла их стереотипизация для одной части аудитории (студенты, интеллигентная публика) и максимально глубокая разработка для другой (интеллектуалы-гуманитарии, филологи). Пройден и имевший место этап отрицания, который объяснялся не только призывом не сотворять кумира, но и чаще всего идеологическим неприятием. Сейчас Бахтин требует перечитывания заново, т. е. выхода за пределы стереотипных прочтений известных терминов и понятий, их переосмысления в применении к изменившейся ситуации, в том числе литературной. Так, например, понятие «полифонизм» приобретает новые воплощения в современной прозе. Очевидно, все термины, связанные со смеховой культурой, карнавалом, ставшие предметом дискуссионного обсуждения в применении к русской литературе XIX в., тоже требуют своеобразного расширения в связи с литературой и бытовым общением нашего столетия, когда появился такой феномен, как постъюмор: связано ли это явление со смеховой культурой, если да, то как трансформировалось. И, наконец, диалог как важнейший концепт гуманитарной культуры ХХ в., снова требует осмысления именно в современной ситуации.
Александр Ильич Иваницкий, Российский государственный гуманитарный университет (Москва, Россия)
- В 1976 г., на первом курсе факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.
- «Проблемы поэтики Достоевского»: в русле моих интересов книга программно развивает романтическую концепцию «сократического» романа.
- Идея романного диалогизма.
- Прежде всего, на мой взгляд, это исследование поэтики романа и «карнавального начала» в повествовательной прозе.
Dr. Adelina Angusheva, Russian and East European Studies, The University of Manchester, UK (Manchester, United Kingdom)
- Впервые я услышала имя М. Бахтина в середине 1980-х гг., будучи студенткой 1-го курса Софийского университета им. Св. Климента Охридского, на лекции о Рабле профессора Людмилы Стефановой, специалиста по французской и западноевропейской литературе. Мне очень нравился роман «Гаргантюа и Пантагрюэль», но лекция, в которой несколько раз упоминался Бахтин, открыла для меня совершенно иной путь к пониманию шедевра Рабле. До сих пор помню, как сидела в читальном зале библиотеки Софийского университета и читала «Творчество Франсуа Рабле». Я думаю, что мой первый год в университете был намечен двумя книгами – «Миф и литература древности» Фрейденберг и «Творчество Франсуа Рабле» Бахтина. В то время Бахтин был особенно популярен в болгарских академических кругах, особенно его концепции «карнавала» и «смеховой культуры». Это я обнаружила в том году, когда начала участвовать в студенческой группе по фольклористике в университете, где широко обсуждались его работы. В тот период и историки литературы, и антропологи (фольклористы) в Болгарии объявляли Бахтина «своим» и что более интересно, они по-разному понимали его произведения. То, что ему удалось собрать воедино и увидеть как одну важную органическую цепь, появилось в интеллектуальном воображении конца века как совершенно разные инструменты интерпретации.
- Это трудный вопрос. Для меня это «Творчество Франсуа Рабле» и «Автор и герой». Обе работы являются не просто «новаторскими», которые меняют методологии или создают новую веху в существующих научных областях, а революционными, которые могут дать начало совершенно новым научным дисциплинам.
- Наследие Бахтина богато и разнообразно, и было бы несправедливо сводить его к отдельным идеям, но в 1990-е гг. его концепция диалогизма казалась мне самой важной, широко обсуждаемой в научных кругах и за их пределами. Сегодня я считаю, что вопрос полифонии как-то лучше выражает мир, в котором мы живем.
- Бахтин – филолог, заставляющий нас забыть о филологии, антиисторический историк. Свобода, органичность и сложность, с которыми он читает литературу и культуру, – пожалуй, его самый важный вклад.
- Это активная в интеллектуальном, культурном и социальном отношении сфера, которая в наше время привлекает не только ученых и педагогов, но и художников, режиссеров и писателей.
- Я думаю, что в будущем бахтиноведение будет развиваться без «Бахтина» – это будет в основном переоцененное и продуктивно развитое наследие Бахтина, которое займет центральное место в освоении его мысли. Бахтинские подходы к художественному тексту сейчас широко применяются в практике преподавания литературы на Востоке и на Западе. Однако я бы хотела, чтобы бахтиноведение способствовало междисциплинарности, выходу за пределы традиционных гуманитарных наук. Я верю, что это действительно будет дань уважения его глубокому гуманизму.
1 На вопросы редакции по поводу 30-летия со времени выхода второго издания книги М.М. Бахтина о Ф.М. Достоевском отвечают Буданова Н.Ф., Захаров В.Н., Пономарева Г.Б., Ренанский А.Л., Фридлендер Г.М.// Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1994. № 1. С.5–15; Профессор Принстонского университета К. Эмерсон отвечает на вопросы редакции // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1994. № 2. С.5–13; На вопросы анкеты отвечают С.Г. Бочаров, И.Л. Волгин, Б.Ф., Егоров, А.И. Журавлева, Ю.Г. Кудрявцев, И.Б. Роднянская // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1994. № 3. С. 5–22; На вопросы редакции по поводу 50–летия защиты М. М. Бахтиным диссертации «Ф. Рабле в истории реализма» отвечают: М. А. Абрамова, Лев Аннинский, В.С. Библер, Е.Ю. Гениева, А.Я. Гуревич, А.Н. Желоховцев, Богуслав Жилко, Вадим Кожинов, Вадим Линецкий, В. Л. Махлин, Е. М. Мелетинский, Лев Осповат, Н.Д. Тамарченко, Caryl Emerson, Ken Hirschkop // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1996. № 4. С. 5–45; На вопросы редакции по поводу 50-летия защиты М.М. Бахтиным диссертации «Ф. Рабле в истории реализма» отвечают: Вяч. Вс. Иванов, Г.К. Косиков, С. И. Пискунова, Борис Шнайдерман, Жеруза Пирес Феррейра, Craig Brandist, Augusto Ponzio, Galin Tihanov //Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1997. № 1. С.5–33; На вопросы редакции о бахтинской теории карнавала отвечают Roumiana Deltcheva, Andrew Favell // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1997. № 2. С. 5–16; На вопросы редакции о бахтинской теории карнавала отвечают А.П. Бондарев, Н.К. Бонецкая, М.Ю. Реутин, И.К. Стаф // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1997. № 3. С. 5–11; На вопросы редакции о бахтинской теории карнавала отвечают М.Л. Андреев, Г.Д. Гачев, Г.С. Померанц, О.А. Светлакова // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1997. № 4. С. 7–25.
[2] См., в частности: Васильев Л.Г. Таким я его помню… // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1994. № 4. С. 109–115; Васильев Н.Л. М.М. Бахтин и Л.Г. Васильев (два с половиной десятилетия общения, сотрудничества и соавторства в хронотопе Саранска) // Невельский сборник : ст. и публ. Вып. 24 : По материалам 24 Невельских Бахтинских чтений (30 июня – 2 июля 2017 г.). СПб. : Лема, 2018. С. 63–74; Его же. Васильев Леонид Георгиевич // Русские литературоведы XX века: биобиблиогр. словарь. Т. 1 : А–Л / под. общ. ред. О.А. Клинга и А.А. Холикова. М. ; СПб. : Нестор-История, 2017. С. 175–176.
3 См.: Васильев Н.Л. Проблема высказывания (речевых жанров) в лингвистической концепции М.М. Бахтина и ее значение для развития филологических наук // Проблемы научного наследия М.М. Бахтина : межвуз. сб. науч. тр. Саранск, 1985. С. 85–104; Махлин В.Л. Бахтин и проблемы «новой науки» [рец.] // Вопр. лит. 1987. № 8. С. 214–215.
[4] См., в частности: Васильев Н.Л. Проблема высказывания (речевых жанров)...; Его же. Теория металингвистики в филологической концепции М.М. Бахтина // М.М. Бахтин: Проблемы научного наследия : межвуз. сб. науч. тр. Саранск, 1992. С. 45–52; Его же. Лингвистические идеи М.М. Бахтина и их значение для развития филологических наук // М.М. Бахтин и гуманитарное мышление на пороге ХХI века : тез. III Саранских международных Бахтинских чтений : в 2 ч. Саранск, 1995. Ч. 1. С. 12–13; Ср.: Алпатов В.М. Волошинов, Бахтин и лингвистика. М., 2005; Васильев Н.Л. М.М. Бахтин как «лингвист»: от философии языка к металингвистике // Филологические исследования IX / Проблемы бахтинологии – 3. Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд, 2007. С. 194– 198; Его же. Михаил Михайлович Бахтин и феномен «Круга Бахтина»: В поисках утраченного времени. Реконструкции и деконструкции. Квадратура круга. М. : Книж. дом «ЛИБРОКОМ», 2013. С. 72–101.
[5] См. об этом: Васильев Н.Л. Мордовский университет в судьбе М.М. Бахтина // Феникс : науч. ежегодник каф. культурологии и этнокультуры. Саранск : Изд-во Мордов. ун-та. 2015. № 16. С. 16–20; Его же. Концепт М.М. Бахтина «Большое время» как реальная жизненная практика и потенциальная этическая категория // Проблема Хронотопа в современных научных исследованиях : сб. докл. и ст. М. : ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2017. С. 144–152.
[6] См.: Васильев Н.Л. Бахтинизм как историко-культурный феномен // Бахтин и время : тез. докл. IV Бахтинских чтений. Саранск, 1998. С. 10–12; Его же. Феномен бахтиноведения в СССР (России), или В поисках утраченного времени // Невельский сборник : ст., воспоминания. СПб. : Акрополь, 2004. Вып. 9. С. 62–67.
7 См.: Васильев Н.Л. История вопроса об авторстве «спорных текстов» в российской бахтинистике (М.М. Бахтин и его соавторы) // Интеграция образования. 2003. № 3. С. 121–129; Его же. История вопроса об авторстве «спорных текстов», приписываемых М.М. Бахтину // Хронотоп и окрестности : Юбилейный сборник в честь Николая Панькова / под ред. Б.В. Орехова. Уфа : Вагант, 2011. С. 68–105.
[8] См., в частности: Васильев Н.Л. Парадоксы Бахтина и пароксизмы бахтиноведения // Бахтинские чтения – III : материалы Междунар. науч. конф. (Витебск, 23–25 июня 1998 г.). Витебск, 1998. С. 68–74; Его же. К биографии М.М. Бахтина и его родных в ленинградский период их жизни // Невельский сборник. СПб : Лема, 2019. Вып. 25. C. 36–52 (и вклейки).
[9] Grupo de Trabalho Estudos Bakhtinianos; Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Linguística/ANPOLL; the Grupo de Pesquisa Linguagem, Identidade e Memória/CNPq; Bakhtiniana. Revista de Estudos do Discurso
[10] См.: Бахтин М. Избранное : в 2 т. Т. 1 : Автор и герой в эстетическом событии. Т. 2 : Поэтика Достоевского. СПб. : Центр гуманитар. инициатив, 2017.
[11] См.: Бонецкая Н.К. М. Бахтин и философия «серебряного века» // Звезда. 2020. № 7; Ее же. Бахтин и Бердяев о Достоевском // Там же. № 9. Статьи посвящаются 125-летнему юбилею мыслителя.
[12] См.: Н.М. Долгорукова, В.Л. Махлин Ресентимент одураченных // Вопросы литературы. 2013. №6. C. 444–450.
[13] S. Mas Diaz Bakhtin in Cinema and Adaptation Studies Part II. Adaptation studies: back to Bakhtin again // Бахтинский вестник. 2020. № 1(3). URL: https://bakhtin.mrsu.ru
14 Бахтин М.М.: «Достоевского я знал уже с одиннадцати-двенадцати лет» [М.М. Бахтин: Беседы с В. Д. Дувакиным / под ред. С. Г. Бочарова. М.: Согласие, 2002. С. 41].
15 Бахтин М.М. О полифоничности романов Достоевского [интервью З. Подгужецу].
16 Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа // Бахтин М.М. Литературно-критические статьи / сост. С. Бочаров и В. Кожинов. М., 1986. С. 477–478.
Әдебиет тізімі