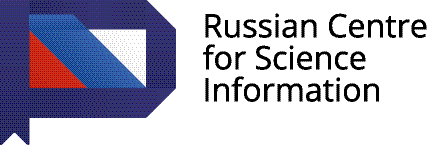M.M. Bahtin about the problem of seriousness
- Authors: Sychev A.А.1
-
Affiliations:
- N.P. Ogarev National Research Mordovia State University
- Issue: No 1(1) (2019)
- Pages: 7-13
- Section: Theoretical research
- Submitted: 17.09.2024
- Accepted: 17.09.2024
- Published: 15.06.2019
- URL: https://journals.rcsi.science/2658-5480/article/view/264056
- ID: 264056
Cite item
Full Text
Abstract
The article addresses the issue of seriousness as it is represented in the texts of M. Bakhtin. The author shows that laughter and seriousness can be regarded as two cultural poles, where the first represents motion and variability, and the second represents completeness and immutability. The differences of laughter and seriousness are considered in several aspects. First, laughter is directed at the world as a whole, and seriousness deals with a certain picture of the world, which it is trying to claim as the only possible reality. Secondly, seriousness and laughter are contrasted as part and whole. Seriousness is only one of the moments of reality, while laughter is commensurate with "the whole unity of the world." Thirdly, laughter does not hide anything, but seriousness can act as a form of concealment. As a result, emptiness and lies often prefer to hide under the guise of seriousness. Finally, laughter is fundamentally non-hierarchical, wthile seriousness tends to divide, build hierarchies. Ideas about serious can be considered as one of the tools to maintain subordination in society. Forms of culture, oriented to seriousness, are dogmatic, authoritarian, characterized by the impenetrability of boundaries and the inadmissibility of any transformations and profanations. Violence, lies and moralism are regarded as the instruments of asserting a seriousness in a culture. However, in addition to one-sided, false seriousness that pervades an authoritarian culture, there are also forms of seriousness which do not oppose to laughter and realize that they are only moments of the “incomplete whole world”: critical philosophy, science, “serio-comical” literature, a new European romance. In all these forms, a serious attitude towards the world, mixing with the laughter, gives rise to a special kind of synthesis that allows the culture to develop, while retaining its specificity. In conclusion, the author writes about the excessive seriousness of Russian culture and the need for a “laughter” impulse for its development.
Keywords
Full Text
В записях М.М. Бахтина начала 1940-х гг. содержится небольшой фрагмент, имеющий подзаголовок «Проблема серьезности». В собрании сочинений философа он включен в текст рукописи «К философским основам гуманитарных наук». Прямого отношения к содержанию этой рукописи он не имеет, но можно предположить, что именно размышления о специфике методологии гуманитарных наук привели автора к рассмотрению проблемы серьезности.
Собственно в «методологической» части текста серьезность упоминается лишь один раз – в контексте познания и наряду со страхом («Страх и устрашение в выражении (серьезность)» [1, т. 5, с. 9]).
Исходным пунктом для реконструкции рассуждений автора может служить понимание серьезности в науке как авторитетности, важности, обоснованности, точности, признанности и т. д. (толковый словарь утверждает, что серьезными называются «учреждения, издания, специалисты, которые вызывают в других уважение, потому что имеют большой авторитет и известны многим людям» [9, с. 1197]). Серьезность апеллирует к объективности и точности; в этом смысле она «стабилизует, она обращена к готовому, завершенному» [1, т. 5, с. 10]. Применительно к естествознанию (как к познанию объективных фактов и законов мира природы) такой подход закономерен и не вызывает особых возражений. Однако объектом гуманитарных наук является не мертвая вещь, которой можно дать объективное и точное описание, а живая личность – меняющаяся, противоречивая, неисчерпаемая. Фундаментальной характеристикой гуманитарного познания является незавершенность. Даже прошлое для него не завершено окончательно, не равно себе и всякий раз дает новые ответы на вопросы потомков. Чтобы гуманитарное познание приобрело видимость объективности и точности (т. е. стало в полной мере серьезным), необходимо объявить только одну интерпретацию событий истории единственно верной, только одно направление исследований научным, только одну теорию истинной. Нередко такие претензии на серьезность легитимируются государством и получают официальную поддержку. При этом на любые альтернативные точки зрения налагается запрет, а против тех, кто их выдвигает, применяют различные меры воздействия: от замалчивания до прямого насилия. Такое управляемое состояние науки ограничивает познание и сковывает творчество, т. е. фактически сводит гуманитарную научность на нет (ситуация, сложившаяся с философией в Советском Союзе к началу 1940-х, стала ярким тому подтверждением).
В абзаце, посвященном собственно серьезности, последняя раскрывается в более широком культурном контексте. Здесь понятие серьезности приобретает категориальное звучание и философскую многомерность [см.: 2, 3], а также намечается и предельно обостряется важная для концепции Бахтина оппозиция «серьезность–смех» [6, с. 165], теоретически развернутая в позднейших работах Бахтина (прежде всего в книге о Франсуа Рабле и в переработанной книге о Достоевском).
Серьезность, утверждает Бахтин, всегда предполагает некую опасность, в то время как смех звучит, когда опасность миновала. Серьезность напоминает о заботах и угрозах, которые нам несет завтрашний день, смех же «упраздняет тяжесть будущего». Серьезность сопутствует необходимости, смех – свободе и т. д. [1, т. 5, с. 10]. В последующих текстах эта противоположность конкретизируется, вбирая в себя новые смыслы. Если смех показан как веселье, вольность, отмена запретов, разнообразие, критичность, то серьезность, соответственно, трактуется как устрашение, запрет, ограничение, обеднение, догматизм.
В целом смех и серьезность в трактовке Бахтина рассматриваются как два мировоззренческих полюса, где первый представляет движение и изменчивость, а второй – завершенность и неизменность. Для того чтобы проиллюстрировать это положение, можно обратиться к нескольким аналогиям.
Воплощение смеха – это карнавальный шут, который ходит колесом по рыночной площади. Его «верх» и «низ» нестабильны – они постоянно меняются местами. При этом шут ничего не скрывает, а напротив – демонстрирует себя во всех возможных ракурсах. Поведение его абсолютно свободно и потому непредсказуемо – он может с равной степенью вероятности оголить зад или, напялив тиару, начать читать проповедь.
Чтобы придать этому образу серьезность, необходимо запретить любое спонтанное самовыражение, остановить все кувыркания, зафиксировать тело в подобающем и приличном положении – когда лицо будет впереди, а ноги – стоять на земле, а также придать лицу выражение, которое будет однозначно свидетельствовать о том, что человек не склонен к шуткам: «нахмуренные брови, устрашающие глаза, напряженно собранные складки и морщины» [1, т. 5, с. 10].
На самом деле добиться абсолютной неподвижности и завершенности невозможно, поэтому лучшей иллюстрацией серьезности будет даже не сам человек, а его парадный портрет. Вполне показательны в этом аспекте канонические портреты глав государств, показанных в наиболее выгодном ракурсе: их позы величественны, взгляды полны мудрости и понимания, и весь вид в целом важен и значителен.
Аналогия с шутом и картиной позволяет сделать несколько наблюдений, подчеркивающих глубинные отличия смеха от серьезности.
Во-первых, смех направлен на мир в целом. Он видит мир таким, каков он есть на самом деле, во всей своей противоречивости и текучести. Серьезность же имеет дело не с миром, а с определенной картиной мира, которую она и пытается выдать за единственно возможную реальность. Здесь точка зрения Бахтина близка к идеям М. Хайдеггера, который считал, что особенностью Нового времени является создание человеком настолько разработанной картины мира, что она принимается им за реальное бытие:
«Картина мира, сущностно понятая, означает таким образом не картину, изображающую мир, а мир, понятый в смысле такой картины» [10, с. 49]. Здесь мы вновь возвращаемся к рассуждениям о науках, формирующих однозначную гуманитарную картину мира, а затем пытающихся вместить в узкие рамки этой картины все сопротивляющееся многообразие реальности.
Во-вторых, ошибочным будет рассмотрение смеха и серьезности как двух равноправных, онтологически равнозначных полюсов культуры. Серьезность и смех противопоставлены скорее как часть и целое. Серьезность есть лишь один из моментов реальности, определенный ее срез. Смех же объемлет реальность как таковую: он сопричастен и соразмерен последнему целому мира: «Природа, представленная как всесильное и всепобеждающее целое не серьезна, а равнодушна или прямо улыбается («сияет») и смеется. Последнее целое нельзя представить себе серьезным – ведь вне его нет врага, – оно равнодушно весело; все концы и смыслы не вне, а внутри его. Ему ничего не предстоит; ведь предстоящее делает серьезным» [1, т. 5, с. 10]. Показательно, что исследуя игру – стихию, близкую к смеху, Й. Хейзинга приходит к схожему выводу о соотношении части и целого: «серьезность стремится исключить игру, игра же с легкостью включает в себя серьезность» [11, c. 58].
В-третьих, смех ничего не скрывает – смехом человек разоблачает себя, показывает со всех сторон и во всех ракурсах, в том числе самых потаенных (неслучайно смех тяготеет к тем сферам жизни, которые обычно не принято выставлять на всеобщее обозрение). Серьезность же сама по себе выступает как форма сокрытия: высвечивая что- то одно, она одновременно задвигает в тень все остальное. Именно поэтому она часто используется для того, чтобы скрыть то, чего не желают делать достоянием публики. В результате именно под маской серьезности, запрещающей всякие сомнения и насмешки – за важным видом, правильными словами, высокими чинами, должностями и званиями – предпочитают скрываться пустота, ложь и лицемерие. В этой связи вполне объяснимо недоверие тонко чувствующих фальшь людей (среди которых обычно много представителей искусства) к официальной серьезности. Они избегают такой серьезности, стыдятся ее и пытаются снизить ее чрезмерный пафос смехом. С. Кьеркегор (один из любимых философов Бахтина) писал в схожем контексте, что «пафос, не защищенный иронией – это иллюзия» [4, с. 6].
Наконец, смех принципиально внеиерархичен – он уравнивает смеющихся, снимает сословные и классовые барьеры, фамильяризует отношения. Смеяться над высоким – значит развенчивать, снижать его, ставить на один уровень с собой. Серьезность же проявляет тенденцию к выстраиванию иерархий. Она предполагает, что есть нечто серьезное – важное, уважаемое, авторитетное, все же остальное не стоит внимания. Собственно говоря, представления о серьезном можно рассматривать в качестве одного из инструментов поддержания субординации в обществе. Люди, занимающие господствующее положение, должны выглядеть в глазах всех остальных исключительными: более сильными, умными, авторитетными, харизматическими, даже если реальность свидетельствует об обратном. Поэтому они требуют только серьезного отношения к себе и не приемлют смеха. В итоге если народная культура полнее всего выражает себя через смех, то власть говорит исключительно на языке серьезности.
Серьезность, разделяя социальное целое на привилегированные и непривилегированные группы, «рабов и господ», сама по необходимости становится разделенной. Можно говорить о серьезности власти: официальной, угнетающей, запугивающей, требующей, запрещающей, но можно также говорить и об оборотной стороне того же явления: серьезности рабов и жертв, которая выражается в запуганности, страдании, смирении, лести, лицемерии. Бахтин в этом контексте различает различные тона проявления серьезности в широком спектре от «грозно-серьезных» до «жалко- серьезных» (в этом смысле можно говорить о жанровых вариациях серьезной речи). Впрочем, во всех случаях за серьезностью такого рода скрывается не сила, а слабость. В одном случае она просто замаскирована насилием и ложью, а во втором – выставлена напоказ для того, чтобы вызывать к себе жалость. Настоящая, уверенная в себе сила не нуждается в маске серьезности – она не боится смеха в свой адрес и способна смеяться сама.
Итак, серьезность есть определенный тип отношения к миру, основанный на «внутренней и внешней принудительности». Формы культуры, ориентированные на серьезность, догматичны, авторитарны, строго иерархичны, характеризуются непроницаемостью границ и недопустимостью любых трансформаций и профанаций. Серьезность формирует картину мира, «где все явления строго разграничены и занимают неизменимые места (положения) в иерархии. Эта картина мира глубоко субстанциональна. С ней нельзя шутить, она монолитно серьезна. Здесь нет места для пародии и иронии, для пародирующих двойников, для смен масок и переодеваний. Здесь все равно себе самому» [1, т. 5, с. 378]. Обычные эпитеты серьезности у Бахтина – однотонная, односторонняя, хмурая, серая.
Такое резко отрицательное отношение Бахтина к серьезности, по мнению М.А. Маслина, не только выражает теоретическую позицию ученого, но и отражает его индивидуальный опыт: «Эта проблематика имела вполне реалистическое происхождение и подтверждение в личной судьбе Бахтина 1940–1960-х годов. Серьезность выступает в текстах этого периода не просто как новая, не рассмотренная ранее тема, а как категория, которая наложила свою печать на творчество Бахтина, отразила общее экзистенциальное состояние человека, пережившего арест, тяжелую болезнь и казахстанскую ссылку, мыслителя, зажатого в тисках официальной серьезности и лишенного возможности публиковаться» [5, с. 171]. В этом смысле серьезность отождествлялась Бахтиным с той плоской и упрощенной официальной культурой, которую он не мог принять, но с которой приходилось считаться. Кроме того, конкретно-исторический тип серьезности, который находился в фокусе исследования Бахтина, – официальная серьезность Средневековья и Возрождения – представляла не менее яркие образцы догматизма, авторитаризма и нетерпимости.
Серьезность, в отличие от смеха или игры, всегда предполагает некие внешние по отношению к себе цели. Она всегда кому-то выгодна: «Серьезность практична и в широком смысле слова корыстна» [1, т. 5, с. 10]. Пользуясь ею, определенные лица, социальные группы, классы пытаются утвердить свои частные интересы в качестве «общего дела». Применение силы – самый прямолинейный и очевидный способ обеспечить внешнее единодушие. Серьезность приходит в мир, полагает Бахтин, вместе с насилием. Для того чтобы утвердить единственно верное понимание ситуации, следует обезвредить – запугать или даже уничтожить – всех тех, кто с не согласен с официальной линией. В классовой культуре, пишет Бахтин, серьезность «авторитарна, сочетается с насилием, запретами, ограничениями. В такой серьезности всегда есть элемент страха и устрашения» [1, т. 4(2), с. 103].
Другой инструмент установления превосходства серьезности – это ложь. Бахтин пишет о том, что за «одноголосой серьезностью» всегда стоят двуличие и ложь [1, т. 3, с. 724]. Генетическую связь лжи и насилия особенно хорошо показал А.И. Солженицын в эссе «Жить не по лжи». Ложь в его трактовке – ослабевшее насилие, обряженное в одежды серьезности и респектабельности: «Когда насилие врывается в мирную людскую жизнь – его лицо пылает от самоуверенности, оно так и на флаге несет, и кричит: “Я – Насилие! Разойдись, расступись – раздавлю!” Но насилие быстро стареет, немного лет – оно уже не уверено в себе, и, чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично, – непременно вызывает себе в союзники Ложь. Ибо: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием. И не каждый день, не на каждое плечо кладет насилие свою тяжелую лапу: оно требует от нас только покорности лжи, ежедневного участия во лжи – и в этом вся верноподданность» [8, с. 160]. В итоге, если за маской серьезности не скрывается насилие, почти наверняка там обнаруживается ложь.
Что касается правды, то здесь, полагает Бахтин, никаких оттенков насилия и серьезности нет и быть не может: правда «никого не осуждает, не разоблачает, не унижает, не отнимает, не уменьшает, ничего не требует, в ней нет ни грана насилия и серьезности, она только сияет и улыбается, хотя она и полна милующей жалости. Она – абсолютная доброта» [1, т. 4(1), с. 711]. Здесь эпистемологический подход к серьезности смыкается с этическим.
В сфере морали инструментом установления «хмурой назидательной серьезности моралистов и ханжей» [1, т. 4(2), с. 407] является морализаторство, объявляющее единственным критерием нравственного поведения абстрактные нормы и ценности и тем самым пресекающее все возможности свободного нормотворчества. Бахтин пишет, что в такой морализирующей серьезности воплощается «извне навязанное долженствование» [1, т. 5, с. 65]. Развернуто о той же тенденции говорит Ж.-П. Сартр, отмечая царящий в культуре «дух серьезности». Он пишет: «Дух серьезности имеет в действительности двойственную особенность: рассматривать ценности как трансцендентные данные, не зависимые от человеческой субъективности, и переносить свойство “желаемого” с онтологической структуры вещей на их простую материальную структуру» [7, с. 625]. В результате человек не создает ценности, а формирует самого себя согласно извне навязанным требованиям, имеющим видимость объективности и общеобязательности. Освободиться от «духа серьезности» – значит действовать, исходя не из формальных безличных норм, а из понимания своей уникальной ответственности. Иными словами, это значит осознать себя в качестве бытия, только благодаря которому и существуют ценности.
Сартр противопоставляет «духу серьезности» игру [7, c. 583]. Бахтин пишет о родственном ей смехе как инструменте освобождения от серьезности: «Смех не внешняя, а существенная внутренняя форма, которую нельзя сменить на серьезность, не уничтожив и не исказив самого содержания раскрытой смехом истины. Он освобождает не только от внешней цензуры, но прежде всего от большого внутреннего цензора, от тысячелетиями воспитанного в человеке страха перед священным, перед авторитарным запретом, перед прошлым, перед властью» [1, т. 3, с. 106].
Больше того, смех способен очистить саму серьезность. Помимо односторонней, ложной серьезности, пронизывающей авторитарную культуру, существуют, по мнению Бахтина, и такие формы серьезности, в которых она не противопоставляет себя смеху и осознает, что она есть лишь один из бесконечных моментов «незавершимого целого мира». В числе форм такой серьезности Бахтин называет сократовскую критическую философию и строгую научную серьезность, которые характеризуются отсутствием всякого догматизма. Сократ никогда не вещал готовых истин, предоставляя возможность собеседникам прийти к истине самостоятельно; науке же внутренне присущи механизмы сомнения и критики (то, что Р. Мертон называет императивом «организованного скептицизма»), не позволяющие ей объявить об обнаружении окончательной истины. В литературе такого рода серьезность проявляется в жанрах, которые в Античности объединялись понятием «серьезно-смеховое» (прежде всего в Менипповой сатире), а их современным наследником является новоевропейский роман, вершиной которого Бахтин считал полифоническое творчество Ф.М. Достоевского. В романах последнего «вся односторонняя серьезность (и жизни и мысли) и весь односторонний пафос отдаются героям, но автор, сталкивая их всех в «большом диалоге» романа, оставляет этот диалог открытым, не ставит завершающей точки» [1, т. 6, с. 186]. Во всех этих формах серьезное отношение к миру смешивается со смеховым, порождая особого рода синтез, позволяющий культуре развиваться, сохраняя свою специфику.
Бахтин, впрочем, отмечает, что в российской культуре, несмотря на все достижения классической литературы серьезный и смеховой аспекты мира так и не были соединены воедино. Этим, пишет он, «объясняется известная односторонняя серьезность всей нашей культуры и литературы. Мы не получили прививки раблезианского смеха (и стоящей за ним великой карнавальной культуры)» [1, т. 4(2), с. 639]. Нет необходимости говорить о том, что и сегодня официальная российская культура пронизана пафосной и формальной серьезностью, не признающей альтернативных точек зрения, критики и насмешек. Во многом из-за этого духовная атмосфера не способствует свободному развитию и творчеству. Чтобы изменить ситуацию, следует подняться над ложной серьезностью: научиться с участием выслушивать и понимать чужую точку зрения, смеяться над собой, видеть в жизни не только формальные обязательства, ощущать радость от жизни как таковой. Точнее всего по этому поводу высказался О. Уайльд: «Жизнь – слишком важная вещь, чтобы говорить о ней серьезно».
Синтез реагентов осуществляли азосочетанием диазосолей п-сульфаниловой, 3- и 4-аминобензойных кислот с фенолом (ч., Alfa Aesar), п-крезолом (ч., Acros Organics), нафтолом-1 (99+%, Acros Organics) или нафтолом-2 (ч.д.а., АО «Химреактивснаб»). Диазосоли получали взаимодействием п-сульфаниловой (ч., АО «ВЕКТОН»), 3- и 4-аминобензойных кислот (99%, Alfa Aesar) с NaNO2 (х.ч., «Донецкий завод химических реактивов») в кислой среде.
Исследуемые реагенты: 4-(4-сульфофенилазо)фенол (I), 2-(4-сульфофенилазо)-п-крезол (II), 4-(4-сульфофенилазо)нафтол-1 (III), 4-(4-карбоксифенилазо)- фенол (IV), 2-(4-карбоксифенилазо)-п-крезол (V), 4-(4-карбоксифенилазо)нафтол-1 (VI), 2-(3-карбоксифенилазо)-п-крезол (VII), 1-(4-сульфофенилазо)нафтол-2 (VIII), 1-(4-карбоксифенилазо)нафтол-2 (IX).
About the authors
Andrey А. Sychev
N.P. Ogarev National Research Mordovia State University
Author for correspondence.
Email: sychevaa@mail.ru
Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Philosophy
Russian Federation, SaranskReferences
- Bakhtin M.M. Sobr. soch.: v 7 t. T. 1–6 (Collected works in 7 vol., Vol. 1–6). M.: Yazyki slavyanskikh kul'tur, 2012. 880 s.
- Voronina N.I. O mnogomernosti filosofskogo teksta (About the multidimensionality of the philosophical text) // Bakhtin i vremya: Tezisy dokladov IV Bakhtinskikh chtenii. Saransk, Izd-vo Mordov. un-ta, 1998. S. 122–126.
- Klyueva I.V. Terminologiya iskusstva kak universal'nyi yazyk filosofii M.M. Bakhtina (The terminology of art as the universal language of the philosophy of M.M. Bakhtin) // Bakhtinskie chteniya: Materialy nauchno-teoreticheskoi konferentsii. Orel, OGU. 1997. S. 45–50.
- K'erkegor S. Ili – ili (Or – Or) SPb: RKhGA, 2011. 823 s.
- Maslin M.A. Problematika ser'eznosti v arkhivnykh tekstakh M.M. Bakhtina (Problem of seriousness in the archival texts of M.M. Bakhtin) // Provintsiya na perekrestke istoricheskikh sudeb: XI Saranskie filosofskie chteniya. Saransk, 2017. S. 170–176.
- Osovskiy O.E., Dubrovskaya S.A. Bakhtinskaya kontseptsii «smekhovogo slova» v trudakh M.M. Bakhtina 1930–1960-kh gg. (The development of the concept of "laughter word" in the writings of M.M. Bakhtin, 1930–1960) // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2014. № 4–1 (34). S. 163–167.
- Sartr Zh.-P. Bytie i nichto. Opyt fenomenologicheskoi ontologii (Being and nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology). M.: Respublika, 2000, 639 s.
- Solzhenitsyn A.I. Zhit' ne po lzhi! (Live not by Lies) // Nash sovremennik. 1989. № 9. S. 160–162.
- Tolkovyi slovar' russkogo yazyka (Explanation Dictionary of the Russian language) / Pod red. D. V. Dmitrieva. M.: Astrel', 2003, 1582 s.
- Khaidegger M. Vremya kartiny mira (Time of the Picture of the World) // Vremya i bytie. M.: Respublika, 1993. S. 41–63.
- Kheizinga I. Homo ludens. M.: Progress, 1997. 253 s.