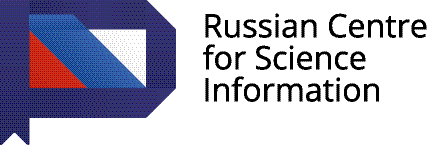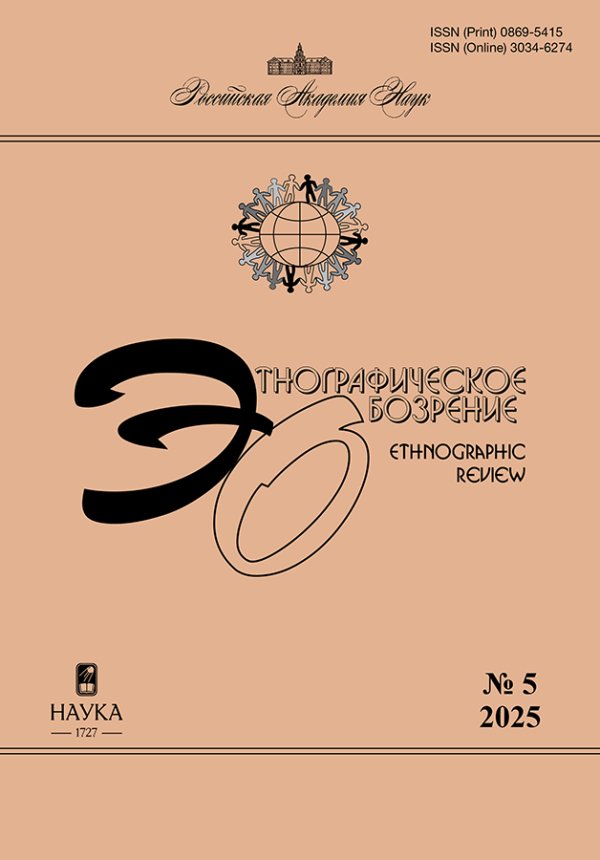Labor and Work in the Ethics of Contemporary Orthodoxy: Restoring a Peasant House, Monastery and Holy Russia
- Authors: Yarovaya P.R.1
-
Affiliations:
- Higher School of Economics – Saint Petersburg Branch
- Issue: No 6 (2024)
- Pages: 81-96
- Section: Special Theme of the Issue: Economic Anthropology of Household Outside Metropolitan Areas in Contemporary Russia
- URL: https://journals.rcsi.science/0869-5415/article/view/276266
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869541524060057
- EDN: https://elibrary.ru/VTSLKR
- ID: 276266
Cite item
Full Text
Abstract
Drawing on the case of the repair of a peasant house by residents of a dilapidated (and also being restored) Orthodox monastery in the Russian North, the article raises the question of the relationship between theology and economics of economic ethics. The ethnographic analysis of this article focuses on the categories of “labor” and “work” in the practice of restoration and on the example of the hegumen of the monastery and his wards. My argument is that the spiritualization of “labor” and the theological understanding of the “laborer” in the context of the restoration of the Church is opposed to the economic (secular) strategies of “work” and “worker”. The hegumen inscribes the reconstruction of the destroyed peasant house into the general concept of the restoration of the church, which is carried out in the conditions of modernity and its challenges. The restoration of the Church seems to the hegumen and his wards not so much a “work” to repair cultural monuments, but a “labor” to return to the pre-revolutionary way of life, which is the prototype of a utopian paradise, Holy Russia. “Labor” and “work” are different by their temporalities: work is aimed at the result in the future while labor as spiritual practice is grounding for the return to the past. The article examines how the methodology of the ideal types of connection between Protestant ethics and capitalism (Weber) can be applied in the context of Orthodox economic ethics (Zabaev) through Weber's “understanding” methodology. The purpose of the article is to point out the inconsistency of binary oppositions used to interpret labor and work practices in an Orthodox monastery, and the need to consider them in the context of the historical continuity of practices and their meanings.
Keywords
Full Text
Верующие восстанавливают старое, а неверующие, пренебрегая старым, строят новое – считает настоятель маленького монастыря в Вологодской области. Вместе со своими подопечными он занимается ремонтом крестьянского дома, называя это “делом церкви”. Однажды в своей проповеди он осудил участника стройки за вопрос: зачем тратить столько сил на полуразрушенный дом, если проще возвести другой? Священник ответил, что так может рассуждать только неверующий. Отказ сносить старый и строить на его месте новый дом – это протест против современности, которая видится настоятелем безбожной, утратившей исторические и духовные корни; кроме того, здесь просматривается соединение религиозности и противостояния модерности: руководствоваться рациональностью и прагматизмом – значит быть неверующим. Восстановление дома, а также различение труда и работы в контексте этого восстановления находятся в центре данной статьи и иллюстрируют отличие логик модерности и ретроспективных утопий (retrotopias [Bauman 2018; Rev 1998]).
В рамках кейса восстановления старого дома я рассматриваю “работу” и “труд” и как метафоры, и как части локального (восстановление монастыря в Вологодской области) и глобального (восстановление Церкви в России как “домохозяйства”, поддерживаемого и материальным, и духовным трудом) проектов. Восстановление церковных строений и духовной жизни Церкви – один из смыслов “труда” трудника/трудницы (мирян, добровольно временно или постоянно исполняющих послушания в монастыре). Но основной смысл их “труда” – смирение перед Богом; материальное для них существует в неразрывной связи с духовным.
Разграничение “работы” и “труда” обнаружилось в речи моих информантов в самом начале наблюдения; в своем исследовании я использую эти “эмные” категории как аналитические. “Работе” я приписываю секулярное значение, под ней понимается рациональная деятельность, направленная на максимизацию материального результата в будущем. “Труд” – это одухотворенная работа, осуществляемая не ради собственного блага, но ради блага высшего (через поверение воли трудящегося с волей Бога). Так как духовная интерпретация не подчиняется исключительно линейной логике, поскольку определяется через вечное спасение, “труд” отличен от “работы” и по своей темпоральности.
Представление информантов о “труде” совпадает с описанным О.А. Платоновым “русским трудом”, который неразрывно связан с духовностью, подвижничеством и монастырями, где труд закрепился как традиция (Платонов 1991). О.А. Платонов приписывает “русскому труду” идею общей пользы, противопоставляя общинный труд русских крестьян индивидуализированному труду ради личного спасения в западноевропейских странах (Там же: 8). Это последнее замечание раскрывает неоднозначную разницу между трудом и работой – в различных интерпретациях “секулярное” и “религиозное” могут меняться местами. На практике “труд” и “работа” могут обозначать одну и ту же деятельность, например, ремонт монастырских зданий, приготовление еды, возделывание грядок, пение в церковном хоре. Я рассматриваю “труд” и “работу” как идеальные типы, различение между которыми зачастую можно провести исключительно номинативно через их интерпретацию самими трудящимися и работающими. То же самое можно сказать и о других связанных с “трудом” и “работой” категориях, таких как “смирение”–“призвание”, “ретротопия”–“модерность”.
В небольшим монастыре, о котором пойдет речь, живут и работают не только монахи, но и трудники. Все они составляют единое сообщество: на трапезе сидят за одним столом, живут в одном здании, выполняют одни и те же “послушания”1. Временных трудников здесь почти не бывает; небольшая часть трудниц живет в монастыре постоянно, остальные (из числа прихожан) приходят несколько раз в неделю. Трудники, как правило, не становятся монахами или послушниками, они остаются в этом “гибридном” положении на протяжении многих лет, что позволяет им, с одной стороны, быть причастными к восстановлению монастыря, а с другой – не быть обязанными перед Церковью (в том числе не быть обязанными представлять результаты своего труда). Важная особенность данного монастыря – непрерывная работа по восстановлению “православной жизни” и монастырского комплекса. Юридически – это архиерейское подворье; для получения официального статуса монастыря необходимо наличие как минимум двух монахов. Здесь же, кроме монаха-настоятеля, постоянно живут две монахини и трудница с малолетней дочерью. Следовательно, подворье может быть переоформлено только как женский монастырь, что повлекло бы за собой изменение управляющей структуры, назначения игуменьи и перевод настоятеля в статус духовника. Эта стратегия заранее отметается настоятелем, которому обретение официального статуса видится возможным только в рамках мужского монастыря (до революции он и был мужским). Монастырь, таким образом, существует в неопределенном формате: “официально” – это архиерейское подворье; фактически – монастырь, который населен женщинами (из мужчин здесь только сам настоятель); а в мечтах настоятеля – это (должен быть) мужской монастырь; настоятель не теряет надежды на появление братии и на возвращение монастырю дореволюционного статуса. Надежда проявляется в его речах и действиях: он часто упоминает, что исторически монастырь мужской, приглашает монахов из других монастырей поселиться в нем, уделяет больше внимания мужской части церковного хора. Но монахи, которые приходили в монастырь, через какое-то время его покидали – им трудно было жить в таком тесном взаимодействии с мирянами (трудниками и активными прихожанами). На данный момент в полуразрушенных стенах монастыря живет сообщество, которое через призму настоящего смотрит в прошлое и пытается воспроизвести его образ, прибегая к разнородным практикам – и дореволюционным, и модерным.
Ориентация жителей монастыря на прошлое определяет хозяйственную этику, бытовые практики и смыслы. В анализе хозяйственной этики я буду опираться на ее сопоставление с этикой протестантской, связанной (по Веберу) с экономикой и развитием капитализма (Weber 2002). Используя этот ставший классическим подход М. Вебера, я попытаюсь:
- во-первых, развить “понимающую” или “идеально-типическую” методологию через описание интерпретаций трудовых практик в восстанавливаемом монастыре. Монастырь в этом случае – идеальный тип, “предмет”, а “не место” исследования; внутри монастыря обнаруживаются “концептуальные структуры, несущие информацию для действий наших объектов наблюдения” (Гирц 2004: 37);
- во-вторых, привлечь внимание к смыслам (и интерпретациям) трудовой деятельности, которых по меньшей мере два – религиозный (“труд”) и светский (“работа”);
- и в-третьих, опираясь на понимающий анализ, т.е. анализ смыслов, которые информанты используют для интерпретации своих действий, попытаться, как пишет К. Гирц, распутать эту “паутину смыслов”, “выявить и разъяснить” их значения (Там же).
Мне бы хотелось подчеркнуть, что мои информанты стали моими соавторами. Они, не будучи знакомы с веберовской теорией, четко определяют и отрицают то, что эта теория отождествляет с протестантской этикой. В какой-то степени подход М. Вебера конструирует идеальный тип той модерности, от которой стараются отрешиться жители монастыря и через неприятие которой они создают свой идеальный тип и свой образ дореволюционной утопии, Святой Руси. Эти представления во многом определяют цели монастыря, повседневный уклад его жизни, его хозяйство, в поддержании и воплощении которых насельники и прихожане руководствуются православной хозяйственной этикой. Определение действий и практик, вытекающих из особой православной этики, в противоположность этике протестантской, лежащей (согласно Веберу) в основе современности, – есть также конструирование своего идеального типа. В картине мира информантов этот идеальный тип соотносится с веберовским так же, как Святая Русь соотносится с современностью. Я предлагаю дополнить описание “идеально-типических” категорий (труд–работа; смирение–призвание; ретротопия–модерность) посредством “понимающего” анализа, который обнажает сложность и противоречивость хозяйственной этики восстанавливаемого православного монастыря.
Заимствуя методологический аппарат М. Вебера, И. Забаев утверждает, что “смирение” является центральной категорией практического этоса православия и его хозяйственной этики (Забаев 2018). Продолжая мысль И. Забаева, я предполагаю, что смирение в православии, как и призвание в протестантской этике у М. Вебера, отражает избирательное родство: смирение – труд; призвание – работа. Но, с моей точки зрения, эти аналитические категории сами по себе не дают понимания того, что в моем этнографическом случае лежит за пределами противопоставлений, которые таким образом “понимаются”. Что происходит на стыке разных этик, когда они пересекаются? Как это пересечение проявляется на практике? Кроме того, любые представления и предположения об особых православной и протестантской этиках обобщают возможные интерпретации “этик” самими их носителями и одновременно упрощают многогранность этих интерпретаций. Поэтому, не претендуя на построение и репрезентативность (см. статью Н.В. Ссорина-Чайкова в наст. выпуске) универсальной модели православной этики, я предлагаю свое “насыщенное описание” (Гирц 2004), которое дает “понимание” ситуации современного православного монастыря (внутри которого обнаруживаются “частичные связи” [Ferguson 1985; Strathern 2004] – этнографически доступные единичные отношения избирательного родства) как идеального типа. Деятельность по восстановлению дома и монастыря, наполненная интерпретациями, духовными и секулярными, дает “понимание” существующих представлений насельников и трудников не только об этой деятельности как таковой, но и о современности вообще. В жизни небольшого православного монастыря духовность “труда” и прагматизм “работы” сосуществуют, переплетаясь друг с другом в ситуациях бытовой необходимости.
Исходя из вышесказанного, считаю, что для описания “православной жизни” монастыря недостаточно обращения только к православной хозяйственной этике. Эта категория требует исторической перспективы. Современное российское православие нужно рассматривать в контексте постсоветского проекта восстановления церквей и низовых практик (Тошева 2011). “Православная этика” в таком случае – понятие скорее номинальное. Иными словами, это не данность, уже существующая, а желаемая, восстанавливаемая реальность или “изобретенная религия” (Кормина и др. 2015), так как православные и секулярные практики труда и техники себя могли переплестись: религиозный “труд” смешался с секулярной “работой”. Учитывая длительный период репрессий в советские годы, современное православие следует рассматривать генеалогически: как традицию с оставленными историческим процессом неизгладимыми следами, которые способствовали внутренним трансформациям, – подобно тому, как Т. Асад предлагает рассматривать секулярное и религиозное в их неотделимости (Asad 2003).
Д. Дубовка отмечает, что современные православные монахи стремятся устранить разрыв с традицией, используя дореволюционные практики монашеской жизни. При этом она показывает, что иноческие практики оказались хорошо согласованы и с советским опытом пришедших в монастыри, и с физически тяжелыми условиями затянувшихся ремонтных работ. Согласно ее этнографии монастырской жизни, эти практики не столько отражают христианскую традицию прошлых столетий, сколько являются наследием как советского воображения, так и сегодняшних социально-экономических условий возрождения монастырей (Дубовка 2020). Кроме того, Д. Дубовка предлагает свой взгляд на “смирение” как на практику, в основе которой лежит конфликт, усугубляемый секулярной современностью. Она показывает, что конфликт между секулярными и религиозными интерпретациями трудовой деятельности трудниками современных монастырей дает “смирению” потенциал для духовной трансформации, который парадоксальным образом теряется при устранении этого конфликта – при полном смирении перед волей вышестоящего.
Симбиоз сложившихся современных монастырских практик подчеркивает возможность совмещения, казалось бы, противоположных и несовместимых логик и контекстов. Но, как я покажу в этой статье, секулярное и религиозное могут сосуществовать на практике, не будучи противопоставленными друг другу. Кроме того, в исторической перспективе, рассмотрение которой лежит за пределами задач данной статьи, также неверно было бы воспринимать эти категории как взаимоисключающие. Как показывают исследования российского/советского общества и с секулярной, и с религиозной позиций, секулярное так и не вытеснило религиозное, несмотря на длительный период борьбы советской власти с религией (Кормина и др. 2006; Тошева 2011). В российском контексте важно понимать, что до революции “религия затрагивала не столько веру, сколько весь образ жизни людей, охватывая те ценности и обычаи, которые в большинстве своем просто воспринимались как должное” (Смолкин 2021: 78). Настолько укорененные религиозные практики сложно было вытеснить советскими секулярными, особенно когда последние не имели ни достаточной силы, ни обоснования для того, чтобы заменить некоторые религиозные ритуалы, например отпевание усопших (Там же). На государственном уровне религиозное (Tumarkin 1997; Yurchak 2015), или сакральное (Yurchak 2017), также никуда не делось, оно трансформировалось в причудливые культы личности, окруженные ритуальными практиками и обрядами.
В данном этнографическом исследовании эмпирический материал и теория соотносятся между собой таким же образом, что и практики моих информантов с их религиозным и политическим обоснованием. Идеальный тип конструирую не только я; идеалистический нарратив одновременно существует и вместе с практиками, и отдельно от них, оставаясь мифологическим лейтмотивом, к которому, однако, прибегают в моменты праздности. Внутри этого лейтмотива содержатся и идеальные категории (идеальные типы) исследователя, и, как я покажу ниже, утопические мечты православного субъекта о восстановлении Святой Руси. Этнографически меня, в отличие от М. Вебера, будет интересовать то, как необходимость практики не позволяет реализовать утопию. Утопия в этом подходе выступает в качестве такого идеального типа, который невозможно воплотить во всей полноте, но который существует призрачно, предоставляя базу для понимания и обобщения, т.е. в роли некоего руководства к действию, отрицающего окружающую действительность (Mannheim 2013). Такими же идеальными типами в исследовании будут “труд” и “работа”, которые на практике едва ли получается разграничивать. Насыщенное описание (thick description) я использую для преодоления обобщений, для рассмотрения разнообразия практик, которые противоречат теориям и внутри самого исследования, и внутри нарратива о восстановлении Церкви. Практика все время уводит от идеалистического нарратива, нарушая бинарность категорий “миф” и “жизнь” (Robbins 2001), демонстрируя несостоятельность такого деления по причине повсеместных исключений и периферийных явлений.
Неопределенность можно преодолеть, если сфокусироваться на ее составляющих. Для этого я бы хотела предложить дальнейшее развитие понятия “вернакуляр” в контексте современного православия. А. Круглова пишет о вернакулярном марксизме, как о процессе,
в ходе которого “канонический” или “официальный” марксизм-ленинизм, просеянный через идеологические и дисциплинарные сита, стал народной версией самого себя, когда он был дополнительно модифицирован широким кругом людей, которые использовали его для построения, объяснения и придания смысла своим обычным мирам (Kruglova 2017: 760).
Концепция вернакуляра берет начало в понятии “народное христианство” (vernacular Christianity), означающем в том числе и “народное православие”, и “народную религиозность” (Кормина и др. 2006). Но кроме того, вернакуляр постсоветской России совмещает в себе марксистскую и неолиберальную оптики и все то, что привнес в них непрекращающийся исторический процесс, включая религиозное наследие самого марксизма (Slezkine 2017). Вернакуляр современной России сочетает логики наследия Российской империи, религии, социалистического прошлого и постсоветского настоящего. При этом он не изолирован и от глобального неолиберального контекста – находит свое место в нем, впитывая одни его практики и отрицая другие. Стоит, однако, иметь в виду, что вернакуляр может включать взаимоисключающие элементы, которые, в отличие от нарративов миллениаристских культов, о которых пишет Дж. Роббинс, не требуют включения в единую непротиворечивую космологию (Robbins 2001). Противоречия в этом смысле характеризуют отношения нарратива и практик, строящиеся скорее на необходимости мифа, чем на его стройности.
На пути к дому
Исследование соотношения религиозных и светских смыслов восстановления церковного ландшафта на Российском Севере являлось предметом моей полевой работы с 2022 по 2024 г. Мои летние экспедиции в Вологодскую область включали участвующее наблюдение в самом монастыре (2023 г.). За месяц до выезда в поле я позвонила настоятелю, у которого брала короткое спонтанное интервью в свой прошлый приезд летом 2022 г. Когда я сказала, что хотела бы приехать пожить в монастыре, помочь с его восстановлением и что планирую исследовать этот процесс, настоятель, 70-летний монах, ответил мне пространной проповедью, суть которой заключалась в том, что только верующий человек может восстановить храм. В телефонном разговоре настоятель четко обозначил, чем для него является восстановление монастыря: восстановлением Церкви в глобальном религиозном смысле. “Церковь – это не кирпичи, это люди”, – подчеркнул он. Настоятель раскритиковал за невоцерковленность местного архитектора, который восстанавливал храм по соседству: в силу незнания ритуальной составляющей церковной службы он не предусмотрел в храме вытяжку для каждения. Кроме того, мне было рекомендовано выучиться на архитектора и приехать помогать с реставрацией церкви как специалисту. Чтобы убедить настоятеля позволить мне пожить месяц в монастыре до того, как я переквалифицируюсь в архитектора (его рекомендация имела форму императива и не подвергалась оспариванию), мне пришлось признаться в том, что я верующий человек, что, вероятно, вера составляет важный контекст моего исследования. Так, еще до попадания в поле физически, я оказалась вовлечена в его религиозный дискурс, как это случилось с С. Хардинг2 (Harding 1987).
В июле 2023 г. я на месяц приехала в монастырь и поселилась там в качестве трудницы; я сразу обозначила себя как исследователя. Несмотря на то что в телефонном разговоре со священником я озвучила цель поучаствовать в восстановлении церкви, по прибытии получить непосредственный доступ к этой деятельности я смогла не сразу. То, что я, будучи тогда еще студенткой, приехала изучать жизнь в монастыре, казалось бы, не заинтересовало никого, кроме самого настоятеля. Моя позиция исследователя изначально была задвинута на задний план. Для всех жителей монастыря я была в первую очередь трудницей и выполняла послушания, которые мне давались. Впрочем, трудница, выдавшая мне постельное белье, заметила, что лучше поселить меня в отдельную келью, а не с другой трудницей, чтобы я могла вечерами заниматься учебными делами. Первые дни я провела под руководством одной из двух монахинь, живущих в монастыре, копая грядки и учась читать по-церковнославянски. Три раза в день после совместной трапезы я мыла посуду вместе с другой трудницей. Я узнала, что сферы деятельности в монастыре разделены, у всех свои послушания: одна из монахинь ответственна за приготовление пищи, другая – за поддержание порядка в действующем храме монастыря; постоянная трудница, живущая в монастыре больше семи лет вместе с несовершеннолетней дочерью, моет посуду после трапез и работает на стройке вместе с мужчинами – трудниками и работниками. Через несколько дней беспрекословного исполнения всех указаний, в разговоре с трудницей я выразила желание когда-нибудь поработать на стройке вместе с ними – поучаствовать в восстановлении Церкви, на что женщина ответила, что мытье посуды и любое другое участие в жизни монастыря – это тоже “восстановление Церкви”, пусть не здания храма, но православного образа жизни.
Это ее высказывание перекликалось с тем, что говорил мне священник в нашем телефонном разговоре несколько месяцев назад. Такое единогласие информантов вовсе не случайность. Во время всех трех трапез в течение дня настоятель проповедовал христианскую жизнь и практически каждый раз поднимал тему восстановления Церкви. Тема восстановления – модальность жизни в полуразрушенном монастыре – определяет коллективную идентичность его обитателей (Тошева 2011). Только несколько зданий большого монастырского комплекса пригодны для эксплуатации. Большинство построек заброшены, а в нескольких идут постоянные строительные работы, которыми руководит сам настоятель. Среди местных он известен как строгий, ортодоксальный последователь церковных догматов. Кроме того, он талантливый проповедник: после своего назначения в 2009 г. он привлек в монастырский храм значительное число прихожан и даже приходских старост из других местных церквей. Эти прихожане составляют большую часть немногочисленной строительной бригады, практически ежедневно трудящейся (“трудящейся”, а не просто “работающей”, в частности потому, что они делают это бесплатно) над восстановлением монастырского комплекса.
“Восстановление Церкви” в дискурсе священника и постоянных жителей монастыря не ограничивается строительными работами, оно не ограничивается ни территорией монастыря, ни собственностью РПЦ. Восстановление крестьянского дома настоятель тоже считает делом церкви. Иногда занятые на ремонте дома трудники и трудницы во главе со священником приходили на трапезу с опозданием, в грязной рабочей одежде, быстро ели и уезжали обратно на стройку, где задерживались допоздна. По этой же причине иногда пропускалась обеденная проповедь – только бы успеть закончить дела на стройке. За мытьем посуды я однажды услышала, как прихожанка в разговоре с трудницей упомянула мужчину из прихожан, предложила пригласить его на стройку дома. На это предложение трудница ответила, что “зная его отношение”, его не приглашают. Как оказалось, этот мужчина не считал восстановление дома делом церкви, поэтому неохотно участвовал в такого рода работах (“работах”, а не “труде”).
Столетний крестьянский дом, о котором идет речь, был куплен постоянной трудницей на “материнский капитал”, полученный от государства за рождение второго ребенка (дочери, тоже живущей в монастыре). В этом кроется причина того, что не все трудники считают его восстановление делом церкви. Монах-настоятель, однако, в одной из проповедей после очередного трудового дня сказал, что “он дал благословение на строительство этого дома, поэтому он должен помочь его достроить”.
Труд и работа
В монастыре есть трудники и работники. Трудники составляют постоянное сообщество монастыря и полностью вовлечены в его хозяйственную деятельность. Каждое утро они получают задания (“послушания”) от настоятеля и выполняют их в течение дня. Постоянные работники, а в монастыре их несколько – фотограф, кузнец, столяр, кухарка и секретарь, в отличие от трудников, официально трудоустроены по профессии и получают зарплату, тем не менее их “послушания” могут включать разнообразную деятельность в зависимости от надобностей, определяемых настоятелем. Священник периодически агитирует работников, тех, кто не связан семейными обязательствами и у кого нет малолетних детей, остаться в монастыре насовсем.
Активные прихожане (“помощники”) тоже часто помогают по хозяйству: готовят еду, работают на стройке, ухаживают за огородом и палисадником. Такие люди не получают зарплату, они, по сути, выполняют функцию тех же трудников и близки им почти во всем, за исключением того, что не живут в монастыре, хоть и посещают его почти каждый день. Все – трудники, работники и “помощники” – получают послушания от настоятеля, разница состоит в степени вовлеченности в монастырское хозяйство и в степени контроля со стороны священника. Если трудники всегда под надзором, то работники за пределами монастыря живут и принимают решения самостоятельно.
Кроме институциональной разницы между “трудниками” и “работниками”, существует различие, которое сами эти люди вкладывают в определение/интерпретацию своего положения. Один из трудников в разговоре, инициированном мной после утреннего молебна, задал мне вопрос: понимаю ли я, чем трудники отличаются от работников? Без его вопроса я могла бы и не обратить внимания на категории, которые легли в основу данной статьи. Согласно его интерпретации, “трудник трудится во славу Божию, а работник работает за деньги”. Заинтересовавшись другими возможными объяснениями, я обратилась с вопросом к хозяйке восстанавливаемого дома. Правильно ли я поняла, спросила я ее, что трудники больше исполняют божественную волю, чем работники. Она ответила, что это далеко не всегда так, что работники монастыря трудятся также во славу Бога, но у них есть семьи, поэтому настоятель обеспечивает их зарплатой.
Много раз в течение месяца священник возвращался к теме дома, которая вписалась в вечную идею восстановления Церкви и дополнила ее новым контекстом. Учитывая централизованный характер проповеди и практически полное отсутствие места для дискуссий, нарратив о стройке полностью находится во власти священника. На практике же восстановление крестьянского дома не имеет императивного характера. Стройка дома так же, как и восстановление зданий монастырского комплекса, – дело полностью добровольное. Но если человек решил поехать на стройку, т.е. добровольно принял послушание, он подвластен и принимает позицию подчиненного, который выполняет все указания священника. В этом смысле послушание больше напоминает общественный договор с передачей своих прав суверену (см.: Hobbes 2016). Настоятель выступает в роли суверенного исполнителя божественной воли по отношению к подопечным, которые скорее вверяют (даруют) ему свою волю через смирение, а не подчиняются безусловно: их не принуждают приходить в церковь, также как не принуждают участвовать в санкционированных ею работах, но оказавшись в церкви или на работах, принявшие послушание встраиваются в жесткую иерархию, поверяя свою волю с волей настоятеля.
Приход человека в монастырь или на стройку, однако, не означает, что он будет всегда доволен своей участью – “смиренен”, согласно терминологии И. Забаева и Д. Дубовки. Так, монастырский фотограф как-то пожаловался мне, что из-за стройки дома он не может завершить обучение 3D-моделированию, а это необходимо для проектирования иконостаса в одном из восстанавливаемых монастырских храмов. По его мнению, “нужно уметь расставлять приоритеты” и выстраивать работу таким образом, чтобы получать наиболее эффективный результат там, где это важнее. Мне показалось, что строительство дома, в котором мужчина также принимает участие, он не считает в той же степени “восстановлением Церкви”, что и восстановление зданий монастыря. Любопытно, что именно о фотографе священник все время говорил, что “у него нет Бога в словах”. И. Забаев объясняет, что такое смирение, так: «Основной смысл этой практики состоит в том, что, если воля Бога всегда “правильна”, то человеку лучше всего поручить себя этой воле и делать то, что велит она. Тогда две воли оказываются сонаправленными, и спасение достигается» (Забаев 2012). Фотограф же, хоть и поверяет свою волю с волей священника, на практике смиряется, оставляя за собой право не соглашаться, но не открывая свое несогласие настоятелю – “хозяину” нарратива о восстановлении дома.
Фотограф был не единственным, кто выражал недовольство тем, что приходилось работать на восстановлении дома, или даже высказывал желание отказаться от участия в этом деле. Одна из трудниц (Н.), женщина 65 лет, живущая поочередно месяц в монастыре и месяц дома с мужем, объяснила при мне труднице – хозяйке дома, что она не будет ездить на стройку, потому что “в своем доме наработалась”. Она как-то сказала мне, что сожалеет о своем прошлом (до прихода к вере у нее был прибыльный бизнес), что “люди не понимают – не те богатства надо копить, [которые] в банке, настоящий сбербанк там [указывает на небеса]”. В монастыре Н. много времени проводила за косьбой травы, отмечая, что “это все равно, что физкультура”. Женщина не боялась тяжелого труда, и, как мне кажется, для нее важнее было то, что не так давно она уже выполняла похожую работу. Участие в строительстве дома было для нее личной помощью другой труднице, а не “восстановлением Церкви”. Была ли эта помощь, в представлении Н., “трудом” или воспринималась ею как “работа”, сложно сказать. Сложно сказать также, как Н. понимала косьбу. Но в последней она совершенно определенно видела результат – положительное влияние на здоровье. Часто, расхваливая священника, женщина вспоминала прошедшие годы, когда он был моложе, и подчеркивала, что он восстановил очень много церквей. Н. сожалела о том, что настоятель уже в преклонном возрасте и слаб здоровьем, поэтому не сможет довести дело до конца.
Эти примеры иллюстрируют и идеально-типический характер разграничения категорий “труд” и “работа”, и случаи безмолвного несогласия с централизованной властью настоятеля и его нарративом. Мне также рассказывали о бывших трудниках монастыря, которые ушли, потому что “не выдержали”. Вспоминая о них, трудница – хозяйка дома, говорила, что некоторые просто не понимали, что нужно иметь смирение, что “не нужно предлагать, как лучше, нужно делать, как скажут”. Идея оптимизации процесса по своей природе чужда устройству монастырской жизни. Стремление к повышению результативности во имя скорейшего достижения цели не только не является основной стратегией восстановительных работ, но иной раз ей противоречит. В этом заключается одна из причин отказа настоятеля участвовать в грантовых проектах (другой священник в этом же городе восстановил уже не один храм при помощи грантов). Заявки на гранты предполагают использование бюрократических методов обоснования проекта. Трудница – хозяйка дома, рассказывала мне, что священник отказывается писать заявку, так как в ней нужно обозначить цели реставрации, подробный план с конечным результатом – “выдумывать” его. Настоятель же восстанавливает монастырь и дом совсем не в этой грантовой, государственной, и в этом смысле плановой, логике. Приоритеты не определяются значимостью памятника культуры или другими внешними факторами, а исходят из скрытой от стороннего взора логики монастырского образа жизни с его мотивациями и надобностями (о различных логиках реставрации церковных памятников культуры см.: Дубовка 2020). Государство же руководствуется скорее логикой бюрократии (Weber 2023), определяемой рациональностью, чуждой рациональности монастыря.
Впрочем, нельзя сказать, что священник намеренно выбирает неэффективные стратегии. Если появляется проблема, которую необходимо решить в короткий срок, он выстраивает приоритеты вполне прагматично. Накануне празднования Дня святого князя Владимира в здании, где расположены мужские кельи, из-за обильного дождя обвалилась крыша. Крышу нужно было срочно чинить, поэтому настоятель отменил праздничную литургию и отправил своих прихожан, не задействованных в ремонте, на службу к другому священнику. Настоятель как-то вспоминал, что когда он прибыл в этот монастырь в 2015 г., то хотел вырыть землянку и жить в ней, но земля оказалась сложной, с большим количеством корней, поэтому идею землянки он оставил. В этом случае низкая результативность труда и наличие более легкой альтернативы сыграли в пользу решения не рыть землянку. Назовем это “оптимизированным” результатом, для достижения которого требуется меньше затрат. Значит, для самого священника низкая результативность не является духовным выбором. Труд может быть эффективным – и это даже хорошо. Главное не гнаться за результатом, а понимать духовную значимость труда. Именно это выражает его фраза о бревне, которое они с братией укладывали в основание дома: “Это [бревно] – то, что нас объединяет”. Не противопоставление эффективности, а спиритуализация составляет смысл “труда” (Дубовка 2020).
На руинах Святой Руси
Восстановление Церкви для моих информантов не ограничивается реставрацией монастырского комплекса, но включает в себя ремонт других городских церквей и построек, не относящихся к РПЦ, в том числе крестьянский дом. Восстановление дома и церкви мои информанты понимают шире, чем ремонтные работы. Как говорит настоятель, физическое воплощение церковного здания является иллюстрацией и показателем жизни Церкви. Такой же иллюстрацией является дореволюционное, с обилием церквей и монастырей прошлое России. О том, что было тогда, в монастыре “вспоминают” часто, мечтая это прошлое возродить. До революции в России было хорошо, “брак был крепче”, монастыри богаче, народ православнее. По представлениям жителей монастыря, православный народ, который и составляет церковь, – это непременно крестьяне; они пашут землю по старинке, не используют современную технику, а машине предпочитают коня.
Своей деятельностью настоятель и его подопечные пытаются возродить утерянную традицию, вернуться к мифическому дореволюционному прошлому. Они вычеркивают советский период российской истории, понимая его как недоразумение, упадок, отход от всего святого – как небытие в противовес дореволюционной утопии. Мировоззрение этих людей построено на идее “ойкономии как домостроя” (см. статью Н.В Ссорина-Чайкова в наст. выпуске) православной крестьянской Руси, в которой нет места урбанизации и модернизации, что отражено как в нарративах обитателей и прихожан монастыря, так и в их практиках. Как я неоднократно наблюдала, в проповедях священник часто критиковал технологии и современный гендерный порядок, а потом садился в машину иностранного производства, которую вела женщина, что является нарушением его же собственного видения “домостроя”, и ехал ремонтировать полуразрушенный крестьянский дом, чтобы восстановить православный уклад жизни. В этой критике видна неизбежность модерности: как бы настоятель ни критиковал модернизацию, представить жизнь без нее сложно. И секулярная “модерность”, и религиозная “традиция” – здесь суть идеальные типы, переплетенные в недостижимости утопий.
Полный отказ от критикуемой “модерности” означал бы большие бытовые изменения в жизни монастыря: замену автомобиля лошадьми, стиральной машины ручной стиркой. Вследствие отказа от любой техники и перехода к старым и менее эффективным технологиям возникли бы еще большие сложности со строительными работами. Но в условиях снижения эффективности (которая и так уже ограничена) жители монастыря не смогли бы заниматься ремонтными работами, поскольку вынуждены были бы тратить еще больше усилий на поддержание собственного быта. Монастырь, существующий в условиях непрекращающегося восстановления, застрял бы на тех руинах, в которых его и застал настоятель после своего назначения. Парадоксальным образом даже самые маленькие шаги к восстановлению Церкви, которая в логике моих информантов и есть отрицание модерности, возможны только при обращении к современным благам. Взаимоисключаемость “модерности” и дореволюционной утопии “традиции” в видении жителей монастыря укоренена в их самых мелких повседневных представлениях – от того, в каком доме должен жить настоящий православный русский человек, до того, какими бытовыми средствами можно пользоваться (не химическими). Эти представления и составляют такой эклектичный “вернакуляр” (Kruglova 2017), в котором, несмотря на строгое деление на позволительное (православное) и непозволительное (современное), будничная необходимость вынуждает прибегать к последнему. При этом само деление сохраняется номинативно, а утопия видится единственной причиной, ради которой невозможно отказаться от “современности”.
Священник здесь выступает главным арбитром православной этики, если принять за ее характерную черту не только категорию смирения, но и противостояние модерности. Его подопечные как бы только учатся быть православными. Настоятелю принадлежит в конечном итоге последнее слово в том, что можно, а что нельзя, что есть “труд”, а что есть “работа”, что можно считать восстановлением Церкви, а что ее разрушением (принятием современности). “Смирившиеся” перед его волей трудники и работники, хоть и продолжают иногда интерпретировать свою деятельность иначе, находятся внутри этих отношений власти. Как пишет Д. Дубовка, при наличии духовного лидера интерпретация своей деятельности его подопечными теряет смысл, так как при этой форме смирения устраняется и конфликт – когда секулярный человек, стремясь к духовности, сталкивается с непониманием и потому наполняет свою деятельность духовной интерпретацией (Дубовка 2020). В этой статье я показала, как категории труда и работы, модерности и традиции подразумевают друг друга. Эти категории суть идеальные типы соотносятся также и как категории времени (Ссорин-Чайков 2021). Рядом с сильным духовным лидером спасение не в будущем, оно здесь, рядом со старцем. Но “рядом” со старцем “здесь” (настоящее) превращается в “там” (в прошлое), которое он своим подопечным обещает. Любое действие, согласованное с его волей, будет актом вечного спасения и такого же вечного смирения, “трудом”, а не “работой”.
1 Это отличает маленький монастырь в Вологодской области от больших монастырей, куда приезжает много временных трудников, жизнь которых не регламентирована так строго, как жизнь монахов, и они находятся в маргинальном положении (Дубовка 2020).
2 С. Хардинг, в отличие от меня, не была верующей, но наши степени (не)вовлеченности в религиозный дискурс сопоставимы.
About the authors
Polina R. Yarovaya
Higher School of Economics – Saint Petersburg Branch
Author for correspondence.
Email: pryarovayaa@gmail.com
ORCID iD: 0009-0002-0828-7854
стажер-исследователь, аспирант
Russian Federation, Saint PetersburgReferences
- Asad, T. 2003. Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford: Stanford University Press.
- Bauman, Z. 2018. “Retrotopia”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) 163: 155–158.
- Dubovka, D.G. 2020. V monastyr’ s mirom: v poiskakh svetskikh kornei sovremennoi dukhovnosti [To the Monastery with the World: In Search of the Secular Roots of Modern Spirituality]. St. Petersburg: Izdatel’stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge.
- Ferguson, J. 1985. The Bovine Mystique: Power, Property and Livestock in Rural Lesotho. Man. New Series 20 (4): 647–674. https://doi.org/10.2307/2802755
- Geertz, K. 2004. Interpretatsiia kul’tur [The Interpretation of Cultures]. Moscow: ROSSPEN.
- Harding, S.F. 2018. Convicted by the Holy Spirit: The Rhetoric of Fundamental Baptist Conversion. In Across the Boundaries of Belief, by M. Klass and M. Weisgrau, 381–401. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429502569
- Hobbes, T. 2016. Leviathan. In Democracy: A Reader, edited by R. Blaug and J. Schwarzmantel, 37–42. New York: Columbia University Press.
- Kruglova, A. 2017. Social Theory and Everyday Marxists: Russian Perspectives on Epistemology and Ethics. Comparative Studies in Society and History 59 (4): 759–785. https://doi.org/10.1017/S0010417517000275
- Kormina, Z.V., A.A. Panchenko, and S.A. Shtyrkov. 2006. Sny Bogoroditsy: issledovaniia po antropologii religii [The Dreams of the Virgin: Studies in the Anthropology of Religion]. St. Petersburg: Izdatel’stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge.
- Kormina, Z.V., A.A. Panchenko, and S.A. Shtyrkov. 2015. Izobretenie religii: desekuliarizatsiia v postsovetskom kontekste [The Invention of Religion: Desecularization in the Post-Soviet Context]. St. Petersburg: Izdatel’stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge.
- Mannheim, K. 2013. Ideology and Utopia. New York: Routledge.
- Platonov, O.A. 1991. Russkii trud [Russian Labour]. Moscow: Sovremennik.
- Rev, I. 1998. Retrotopia: Critical Reason Turns Primitive. Current Sociology 46 (2): 51–80. https://doi.org/10.1177/0011392198046002006
- Robbins, J. 2001. Secrecy and the Sense of an Ending: Narrative, Time, and Everyday Millenarianism in Papua New Guinea and in Christian Fundamentalism. Comparative Studies in Society and History 43 (3): 525–551. https://doi.org/10.1017/S0010417501004212
- Slezkine, Y. 2017. The House of Government: A Saga of the Russian Revolution. Princeton: Princeton University Press.
- Smolkin, V. 2021. Sviato mesto pusto ne byvaet: istoriia sovetskogo ateizma [A Holy Place is Never Empty: The History of Soviet Atheism]. Moscow: NLO.
- Ssorin-Chaikov, N.V. 2021. Antropologiia vremeni: ocherk istorii i sovremennosti [The Anthropology of Time: History and the State of the Art]. Etnograficheskoe obozrenie 6: 83–103.
- Strathern, M. 2004. Partial Connections. Savage: Rowman & Littlefield Publishers.
- Tosheva, D. 2011. Ot vosstanovleniia khrama k sozdaniiu obshchiny: samoogranichenie i material’nye trudnosti kak istochniki prikhodskoi identichnosti [From the Restoration of the Church to the Creation of a Community: Self-Restraint and Material Difficulties as Sources of Parish Identity]. In Prikhod i obshchina v sovremennom pravoslavii: kornevaia sistema rossiiskoi religioznosti [Parish and Community in Modern Orthodoxy: The Root System of Russian Religiosity], edited by A. Agadzhanyan and K. Russele, 277–297. Moscow: Ves’ mir.
- Tumarkin, N. 1997. Lenin Lives!: The Lenin Cult in Soviet Russia. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Weber, M. 1949. “Objectivity” in Social Science and Social Policy. The Methodology of the Social Sciences, by M. Weber, 49–112. Glencoe: The Free Press.
- Weber, M. 2002. The Protestant Ethic and the “Spirit” of Capitalism and Other Writings. London: Penguin.
- Weber, M. 2023. Bureaucracy. In Social Theory Re-Wired: New Connections to Classical and Contemporary Perspectives, edited by W. Longhofer and D. Winchester, 271–276. London: Routledge.
- Yurchak, A. 2015. Bodies of Lenin: The Hidden Science of Communist Sovereignty. Representations 129: 116–157. https://doi.org/10.1525/rep.2015.129.1.116
- Yurchak, A. 2017. The Canon and the Mushroom: Lenin, Sacredness, and Soviet Collapse. HAU: Journal of Ethnographic Theory 7 (2): 165–198. https://doi.org/10.14318/hau7.2.021
- Zabaev, I.V. 2012. Osnovnye kategorii khoziaistvennoi etiki sovremennogo russkogo pravoslaviia: sotsiologicheskii analiz [The Main Categories of Economic Ethics of Modern Russian Orthodoxy: A Sociological Analysis]. Moscow: Izdatel’stvo PSTGU.
- Zabaev, I.V. 2018. Smirenie v khoziaistvennoi etike Russkoi pravoslavnoi tserkvi: ispol’zovanie sotsiologii religii Maksa Vebera dlia analiza sovremennogo russkogo pravoslaviia [Humility in the Economic Ethics of Russian Orthodox Church: Using Max Weber’s Sociology of Religion to Analyze Modern Russian Orthodoxy]. Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 36 (4): 175–202. https://doi.org/10.22394/2073-7203-2018-36-4-175-202
Supplementary files