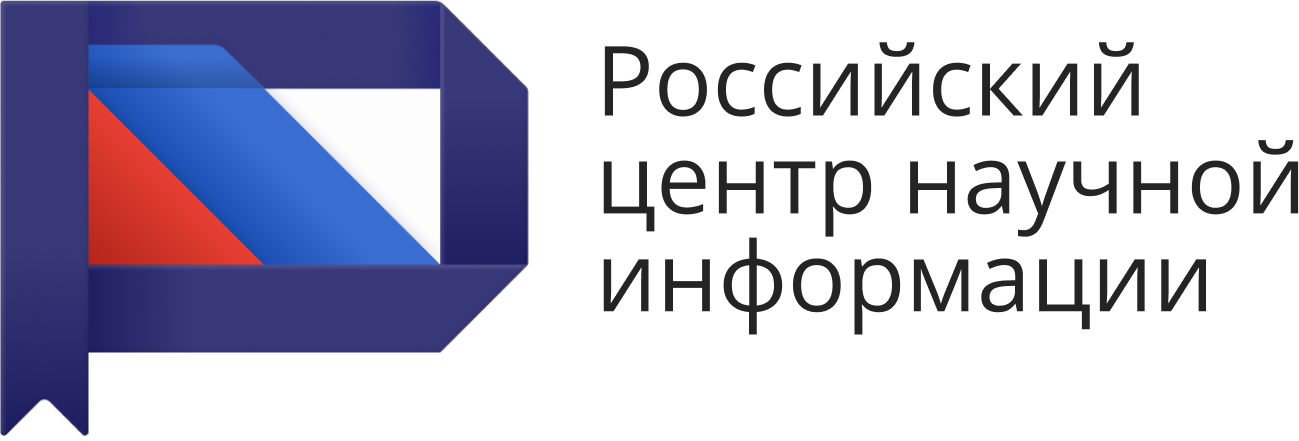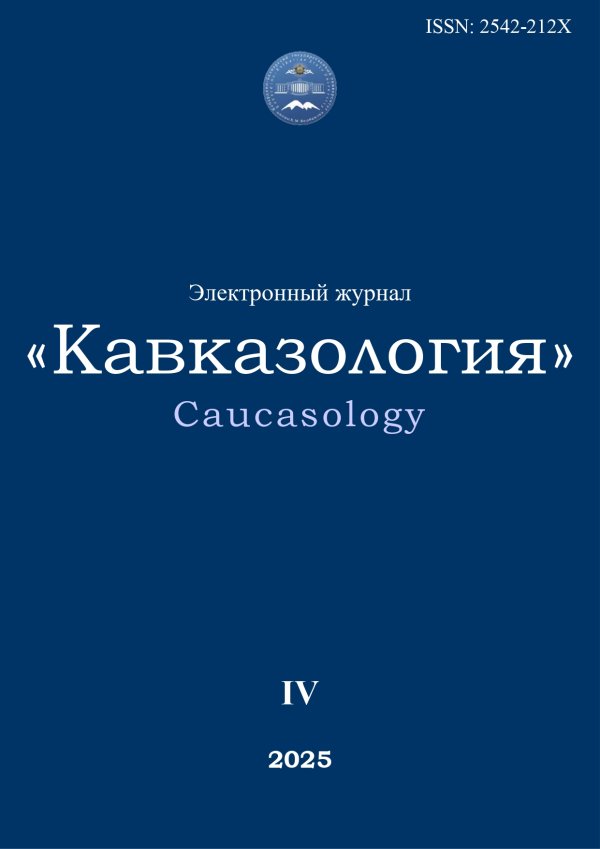Образ ковыля в калмыцкой русскоязычной лирике
- Авторы: Ханинова Р.М.1
-
Учреждения:
- ФГБУН Калмыцкий научный центр Российской академии наук
- Выпуск: № 4
- Страницы: 419-430
- Раздел: Литература народов Российской Федерации (литература народов Кавказа)
- Статья получена: 12.01.2026
- Статья опубликована: 31.12.2025
- URL: https://journals.rcsi.science/2542-212X/article/view/364885
- DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2025-4-419-430
- ID: 364885
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье представлен литературоведческий анализ образа ковыля в современной калмыцкой русскоязычной лирике, чем обусловлены актуальность и новизна объекта и предмета исследования. Материалом статьи стали стихи авторов, вошедшие в поэтические книги разных лет. Сравнительно-сопоставительный метод и метод описательной поэтики выявляют общее и индивидуальное в картине мира поэтов, в их пейзажной лирике, определяющей типичный ландшафт калмыцкой степи. По сравнению с полынью ковыль является вторым частотным фитонимом в стихах калмыцких поэтов о флоре родного края. Тем не менее, фитопортрет ковыля – стихи, адресованные этой траве – редко представлен в лирике авторов за исключением произведений П. Чужгинова и Р. Ханиновой. В основном ковыль стал образным компонентом в общей картине степи, символизируя связь лирического субъекта с родиной, родом, семьей. Автобиографические детали, включенные в такие нарративы, подчеркивают личностное отношение поэтов к патриотической теме. Мотив памяти обычно является сюжетообразующим в таких стихах. Образ ковыля передан через вид, цвет, движение, сравнение, метафору, анимизм: типичными становятся белый цвет ковыля, сравнение с сединой человека, с морскими волнами. Изображение растения в сезонном плане дано в основном весною и летом. В жанровом отношении стихи не отличаются разнообразием, их названия не включают наименование ковыля.
Ключевые слова
Полный текст
В устном народном творчестве калмыков нет легенд и преданий о происхождении ковыля. Упоминается он в эпосе, сказках как степное растение, как средство-мишень для выявления победителя в состязании на стрельбище, как затычка для чайника, в который забралась нечистая сила.
Как в калмыцкой, так и в калмыцкой русскоязычной лирике фитоним ковыль по частотности уступает место фитониму полынь в картине мира поэтов [Ханинова 2025d: 401–411].
«В нашей периодизации история калмыцкой русскоязычной поэзии включает три этапа: 1) середина 1960-х гг. – 1970-е гг.; 2) 1980–1990-е гг.; 3) 2000-е гг. Мы относим к этому явлению калмыцких поэтов, пишущих на русском языке, передающих средствами “чужого” языка свою национальную идентичность, создающих свою национальную поэзию в аспекте традиции и новации» [Ханинова 2025g: 346].
Образ ковыля в современной калмыцкой русскоязычной лирике не был объектом и предметом исследования [Современная русскоязычная 2013; Топалова 2014; Метафоры и метаморфозы 2014; Диалоги во времени и пространстве 2014]. Неравномерно он представлен в пейзажной лирике авторов, в текстах которых ковыль входит в картину степного ландшафта, символизируя родной край. Рассмотрим такие стихи для выявления общего и индивидуального в создании этого образа.
Так, в лирике Джангра Насунова (1942–1979) образ ковыля впервые появился в стихотворении «Выстрел» (1971), посвященном «Памяти Улдиса Кнакиса – инспектора службы охраны сайгаков, погибшего при исполнении служебных обязанностей», в речи героя: «Ты для себя, пожалуйста, запомни, / Что там среди ковыльной тишины / Мои друзья видны как на ладони – / Враги и на равнине не видны» [Насунов 1971: 15]. Метафора тишины в стихотворении «Тишина» (1978) раскрывается как «шум тишины» в гармонии окружающего мира: «в сердце очень нежная струна / Поет о тишине и с тишиною», «пасется тихо белый-белый конь», «и так тиха в моей твоя ладонь» [Насунов 1980: 29–30]. К весеннему тюльпану, приставшему на цыпочки, «льнут <…> седые ковыли» («Тюльпан», 1974) [Насунов 1977: 28]. Прием антропоморфизма позиционирует траву как пожилого человека (определение «седые»), по-отцовски опекающего цветок. Если в стихотворении «Джангарчи ((по мотивам легенды), 1978)» в родном краю «белеет ковыль» [Насунов 1980: 22], то в «Степной балладе» (1977) «прочь бежит багровым ковылем, / Покинув умиравшего собрата, / Добытчик подловато-хитроватый…» [Насунов 1977: 40]. Эпитет «багровый» связан с умирающим браконьером, кровь которого окрасила ковыль.
Лирический субъект Олега Лиджиевича Манджиева (1949–2022) ощущает «кровное родство / со всем живущим в этом светлом мире»: «Тогда поймешь, увидишь и услышишь, / Что неказистый стебель ковыля, / Седой с рожденья, тяжко-тяжко дышит, / О невозможной юности моля» («Письмо», 1982) [Манджиев 1982: 19]. Описание травы актуализирует ее некрасивость, старость, болезненность, что не мешает автору обозреть землю отцов, которую он сравнил со старенькой матерью. Он доказывает в письме к любимой, находящейся в Ленинграде, что «степь не прочесть, как на диване книгу, / И разумом холодным не понять, / И равнодушным сердцем не постигнуть» [Манджиев 1982: 49]. Поэт ищет то особое слово, которое поможет понять родную землю и значит – осознать себя. «Я шепчу неловкими губами, / А достойных слов не отыскать – / Мертвыми и тусклыми словами / Эту красоту не передать» («Слышу я, как лопнуло зерно…», 1982) [Манджиев 1982: 71]. Поэтому даже не ветер, а лунный луч медленно скользит и «ковыль тихонечко шевелит» [Манджиев 1982: 70]. Ночной пейзаж, наполненный тихой жизнью природы, сродни поэтическому процессу в постижении самого себя и вселенной.
Петр Антонович Чужгинов (г.р. 1950) декламирует любовь к родине в книге «Родная степь, воспетая стихами» (2016): «Полынь, тюльпаны, ковыли / Пробьются сквозь степную пыль» («Очарование»), «Ведь мне дороже красота тюльпанов, / Седой ковыль и терпкий аромат тюльпанов…» («Любовь к степи»), «Какой простор! Какая ширь! / Лишь мягко стелется ковыль» («Даль манящая») [Чужгинов 2016: 14, 33, 36], «Ковыль волнистый и седой, / До боли в сердце мне родной…» («Счастливый я»), «Родная степь, полынь и ковыли…» («Каменный пастух») [Чужгинов 2020: 8, 21]. Два фитопортрета ковыля есть в новом сборнике «Ничуть не жаль» (2025). Так, в стихотворении «Ковыль Калмыкии» поэт сравнил ковыль с озером Маныч, похожих, как братья-близнецы, своей сединой и бескрайностью: «Ковыль седой и Маныч тоже, / И друг на друга так похожи. / Они – два брата-близнеца, / Им края нет и нет конца» [Чужгинов 2025: 19]. Седина ковыля символизирует возраст травы и ее цвет. Трава и озеро сосуществуют в степи: «Им вольный ветер – лучший друг, / Тепло им дарит солнца круг. / Нечастый дождик проливной – / Им долгожданный и родной» [Чужгинов 2025: 19]. Обозревая просторы, автор активизирует свою национальную идентичность: «И жадно влагу степь впитает, / И буйно травы расцветают. / А птичьи трели с высока / Ласкают душу степняка!» [Чужгинов 2025: 19]. В другом стихотворении-четверостишии «Ковыль на солнце серебрится…» красивый пейзаж показан в цвете (серебристый), движении (бежит) и сравнении (с волнами): «Ковыль на солнце серебрится, / Бежит волнами на ветру. / И это диво мне не снится, / Когда в степь выйду поутру» [Чужгинов 2025: 9].
Традиционное определение степи как ковыльной и сравнение седого ковыля под ветром с волнами в лирике Василия Гомбовича Сухотаева (г.р. 1952): «Он хозяин степи ковыльной» («Сокровищами фольклора славятся калмыки…»); «Степи ковыльной вечная сюита» («Прекрасна степь Калмыкии весной…»); «Где колышется весной ковыль» («В год и месяц Дракона родился…») [Сухотаев 2018: 32; 36; 53].
Виктор Владимирович Коксадаев (г.р. 1955) задается риторическим вопросом: «Степь моя бескрайняя – ветер, ковыли. / Кто расскажет тайны мне вечные земли?» («Степь») [Коксадаев 2024: 7], видит свою счастливую долю в связи с исторической судьбой вольной степи: «А ветер всеведущий будет / О чем-то забытом мне петь, / О ратных походах и судьбах, / Курганах в седом ковыле» («Калмыкия», 2024) [Коксадаев 2024: 6].
Ср. в лирике Татьяны Ивановны Бадаковой (г.р. 1953): «А преданья степного народа / Стали явью в ковыльной степи» («Память», 2024), «Мощные станы / джунгарских ханов / хранят ковыли / калмыцкой земли» («Моей Калмыкии», 2024) [Бадакова 2024: 56, 66]. Здесь историческая неточность: таких станов джунгарских ханов не было в калмыцкой степи, в Приволжской низменности предки ойратов поселились после добровольного вхождения в состав Российского государства в 1609 г. Джунгарское ханство – последняя в Центральной Азии кочевая империя, ойрат-монгольское государство (1635–1755 или 1758) [Бобров 2007: 60-69].
Ковыльная тема в лирике Валентины Николаевны Лиджиевой (г.р. 1959) проявляется в гендерном плане: «Я стану, как ковыль нетленный, / Теплей, добрее и моложе» («Я буду вечно молодой…»), «Алый тюльпан к волосам приколю, / Брошу на плечи ковыльную шаль. <…> Я ведь сегодня похожа на степь…» («Алый тюльпан к волосам приколю…»), «Я живу в своей родной столице, / В ласковой ковыльной стороне…» («Элиста») [Лиджиева 1982: 6, 37, 10]. В первом нарративе противопоставление старости и молодости в психологическом параллелизме, во втором – сопоставление человека и степи в их красоте, в третьем – синтез родного города и родной степи в их ласковой заботе. Там, в степи, лирическая героиня живет в ожидании любви: «Как конь, рванулось сердце / В простор родной земли. / Не дав мне оглядеться, / Умчалось в ковыли» («Как конь, рванулось сердце…») [Лиджиева 1982: 19]. Взгляд из окна на городскую окраину, где степь «то плачет, то смеется», «где на ветру качается ковыль», исполнен личной памяти о степном детстве [Лиджиева 1993: 70]. Мотив исторической памяти, связывая родину с ее погибшими защитниками, заявлен в стихотворении «В седой степи»: «Строй погибших на войне солдат – / Это строй тревожных ковылей» [Лиджиева 1982: 41].
В лирике Василия Баировича Чонгонова (г.р. 1956) тема родного края, калмыцкой степи занимает основное место. В первой своей книге, названной программно «Со степи начинаюсь…» (2000), поэт сказал: «Следуя традиции, я начинаю свой монолог стихами о степи. Посмотрите, какая она у нас – даже небо на нее облокачивается…» [Чонгонов 2000: 3]. По мнению автора: «Степь и времена года в ней так или иначе всегда участвуют в жизни человека, они помогают ему осознавать значение происходящего в его жизни» [Чонгонов 2000: 38].
Как отметил Николай Санджиев (1956–2022), представляя вторую книгу Василия Чонгонова «Сансары отраженный лик» (2009): «По-особому воспринимает поэт и калмыцкую степь. Как художник слова для выдвижения своих чувств он не позволяет себе использовать уже готовые образы и краски, применяемые мастерами отечественной поэзии, а густо замешивает их в мятежном сердце, находя единственно точные для этого слова. Примером тому служат замечательные по художественной выразительности стихотворения: “Со степи начинаюсь”, “Ты просишь рассказать меня о степи”, “Почему поседел ковыль”, “Этюд»”, “Полынь моя! Печальница” и многие другие» [Санджиев 2009: 4].
Ландшафт степи широко представлен в первом разделе «Степь на ладони» книги В. Чонгонова «Сансары отраженный лик» (2009) [Чонгонов 2009: 7–38]. Метафорическое название раздела можно прочитать по-разному: как фразеологизм (ясно, отчетливо, близко видеть), «степь на ладони планеты», «степь на моей ладони» как символ взаимосвязи поэта с родным краем.
Часть стихотворений из первой книги вошла во вторую авторскую книгу. Обратимся к образу ковыля в национальной пейзажной картине поэта в указанном разделе. Из двадцати восьми текстов в шестнадцати присутствует ковыль – повсеместная трава калмыцкой степи.
Рассмотрим, в каком качестве и виде ковыль изображен в чонгоновских стихах. В первой книге стихотворение «Со степи начинаюсь…» (1981) открывало знакомство читателя с поэтом, во второй книге первая встреча с ковылем в стихотворении «В родные края после долгой разлуки…» (1998). Лирический субъект по дороге домой вспоминал: «Там вьется ковыль бунчуком Чингисхана» [Чонгонов 2009: 13]. Эта историческая связь монголоязычного народа с легендарным предком Чингисханом, основателем Монгольской империи в XIII в., связывает его потомков с Российским государством, подданство которого калмыки добровольно приняли в начале XVII в. Бунчук «как вид военной символики представлял собой знак военной власти в виде древка, увенчанного навершием, а под ним украшенного большой кистью из хвоста лошади, яка или шелка. <…> использовался как атрибут власти хана, полководца и входил в число священных символов в государствах, входивших в состав империи Чингисхана» [Ахмеджан 2024: 173]. «Бунчуки изготавливались из конского волоса, были черного, красного и белого цветов» [Ахмеджан 2024: 173]. Согласно версии, белое и черное знамя использовались в эпоху Чингисхана: «…”белое знамя” представляло собой бунчук, к которому “привязывались хвосты от девяти белых коней”. Оно выставлялось в ханстве монгольского правителя в мирное время» [Бобров, Худяков 2008: 314], черное знамя с бунчуком из хвостов вороных коней символизировало ханскую силу и сопровождало хана в военных походах [Бобров, Худяков 2008: 314]. Таким образом, в стихотворении калмыцкого поэта пряди ковыля сравниваются с белым бунчуком мирного времени.
Историческая панорама родной степи развернута в стихотворении «О, степь моя!», где поэт подчеркнул: «Ты пронесла сквозь вечность, сохранив / Следы народов, смены поколений, / Протяжных песен плачущий мотив» [Чонгонов 2009: 17]. Эта степь знала скифов, сарматов, аланов, хазаров. И потому: «Я знаю, что не от солнца сед / Ковыль, в себя твою вобравший душу. / Ты столько в жизни испытала бед, / Что слез не в силах выплакать наружу» [Чонгонов 2009: 17]. Ср. в стихотворении: «Бездонна высь, ковыль от солнца сед…» («Ты просишь: “Расскажи мне о степи…”») [Чонгонов 2009: 25]. Риторический вопрос в другом стихотворении: «Почему поседел ковыль, / С вечной болью / Склоняя свой стан? / Чью любовь / Он в степи схоронил? / Чью он душу врачует от ран?» («Почему поседел ковыль…») [Чонгонов 2009: 26]. Лирическому субъекту приходят ночью «сны – виденья родимых степей», где «табуны быстроногих коней / И седая печаль ковылей» («Журавли вы мои, журавли…») [Чонгонов 2009: 34]. Автор сравнил себя с ковылем: «Со степи начинаюсь, / С ковыля начинаюсь. / Тонкостанной былинкой / Под ветром качаюсь» («Со степи начинаюсь…», 1981) [Чонгонов 2009: 16]. Эту связь он актуализирует и как поэт: «Лишь ковылем немногословным / Жизнь обесцветила виски» («Курган, как старец смуглолицый…») [Чонгонов 2009: 38]. Метафоры и сравнения ковыля в любовном мотиве, напротив, демонстрируют молодость: «Заря, влюбленной девушкой, кургану / Ковыльный чуб взлохматила небрежно» («Заря, влюбленной девушкой, кургану…») [Чонгонов 2009: 21]. Типичное сравнение травы с волной дополняется «бахромой» в стихотворении «Мир заново создан сегодня…»: «Вскипает волнистою пеной / У ног бахрома ковыля» [Чонгонов 2009: 30]. Сравнение степи, белой от ковыльных локонов, с поседевшей матерью, манифестирует любовь к родному краю: «Дни и ночи ковыльные локоны / Ветер в сердце моем теребит. <…> Степь любимая, белая, белая, / Как моя поседевшая мать» («Степь моя! Золотая и серая…») [Чонгонов 2009: 33].
В той же книге в другом разделе «Край мой серебряный, юности край» также продолжена ковыльная тема. Коннотации смерти имеет ковыль в стихотворении «Храню в душе виденье юных лет…», в котором встреча со стариком, передавшим свой опыт: «А мудрость старика курган признал, / Под саван ковыля его призвал» [Чонгонов 2009: 51]. Судя по контексту, старик-калмык и саван (христианская деталь погребения) никак не может быть соотнесен с ним. Те же коннотации обусловили обобщенный образ конницы с клинками в степи, где «Поник печальной головой / Ковыль» [Чонгонов 2009: 79]. Одиночество уставшего от жизни человека, лежащего в «безнадежной» степи, усугублено указанием цвета и звука ковыля: «Надо мною ковыль пожелтевший скрипит» («Я – один. Словно гладкая белая кость…») [Чонгонов 2009: 91]. Ороним Ергени появляется в описании его ковыльной гривы: «И, как грозные волны великого древнего моря, / Под ковыльною гривой застыли холмы Ергеней!» («Здесь суровые ветры неистово в скорости спорят…») [Чонгонов 2009: 107]. Ночной водопой сайгаков, сопряженный с опасностью, провоцирует при движении стада сравнение: «Хрустит ковыль, как кости в башне пыток» («Луна упала на рога сайгачьи…») [Чонгонов 2009: 152]. Акустический код в стихотворении о любви сопряжен с песней ковыля: «Любимый, не грусти! / Смотри – твоей озвучены любовью, / Поют в степи седые ковыли» («Любовь моя! Ты воскрешаешь взглядом…») [Чонгонов 2009: 183]. В этом разделе из 39 текстов 6 текстов включают образ ковыля. В двух разделах книги поэта ковыльная тема представлена в 22 нарративах.
В лирике Риммы Ханиновой (г.р. 1955) образ ковыля появляется в жанре сновидения, передавая ностальгию сосланных калмыков: «Им снилась степь в раздолье ковыля, / В весеннем мареве родимая земля…» («Им снилась степь в раздолье ковыля…») [Ханинова 1994: 108]. Мотив памяти, личной и исторической, отсылает в этом цикле «Сибирской памяти тетрадь» (1991) к трагическим страницам ХХ в. Словосочетание «раздолье ковыля» являет ассоциацию с широким простором родной степи (долины, низины), с многострадальной долей своей земли.
В новых стихах Р. Ханиновой о ковыле есть «Триады» (2025), написанные в фольклорном жанре «һурвнтс». «Три белых. Летний ковыль – белый. / Легкий путь – белый. / Ласковое слово – белое; Три острых. Зерновка ковыля – острая. / Злая речь – острая. / Зависть – острая; Три длинных. Ости ковыля – длинные. / Осенние дни – длинные. / Оставленные дела – длинные» [Ханинова 2025b]. Белый цвет в культуре монголоязычных народов означает доброе, чистое, сакральное.
Фитопортрет ковыля, названный «Хан степи – ковыль» (2025), написан двустишными строфами: «В степи калмыцкой ханство ковыля, / Куда ни глянешь – здесь его земля. // Ковыль кочевнику был издавна собрат: / Вынослив, выдержан и также коренаст. // Он врос давно в неласковую степь, / Он с ветром песни долго будет петь. // И, объезжая ханство, как всегда, / Привстанет в стременах: вся даль видна. // Там бунчуки белеют из остей – / По всей равнине рати ковылей. // И на кургане восседает хан, / Обозревая свой могучий стан» [Ханинова 2025v].
В калмыцкой степи обитают три вида ковыля: ковыль перистый (Stipa pennata), ковыль Лессинга (Stipa lessingiana), ковыль волосовидный (Stipa capillata). Все они занесены в Красную книгу Калмыкии и Красную книгу РФ как исчезающие виды растений.
Другой фитопортрет «Калмыцкий ковыль» (2025) создан в жанре «вертикальных стихов». Форма такого текста отсылает к старомонгольской письменности, к ойрат-калмыцкому «тодо бичг» – «ясное письмо», в котором строки располагаются не горизонтально, а вертикально. Исторический ракурс включает эпоху Чингисхана и эпоху ХХ века: метафора ковыля как бунчука Чингисхана из чонгоновского стихотворения [Чонгонов 2009: 13] разворачивается здесь в три цвета – белый, черный и красный. Красный цвет в своей семантике контекстно связан с сибирским снегом – ссылкой калмыков в период тоталитарных репрессий (1943–1957), со смертью, болезнями, холодом и голодом.
Калмыцкий ковыль
К | Ч | К | Н | Б |
О | И | А | А | У |
В | Н | К |
| Н |
Ы | Г |
| В | Ч |
Л | И | Ч | Е | У |
Ь | С | Е | Т | К |
| Х | Р | Р |
|
К | А | Н | У | В |
А | Н | Ы |
|
|
К | А | Й | К | С |
|
|
| А | И |
Б | В | Б | К | Б |
Е |
| У |
| И |
Л | М | Н | К | Р |
Ы | И | Ч | Р | С |
Й | Р | У | А | К |
| У | К | С | О |
Б |
|
| Н | М |
У |
| В | Ы |
|
Н |
|
| Й | С |
Ч |
| Б |
| Н |
У |
| О |
| Е |
К |
| Ю |
| Г |
|
|
|
| У |
|
|
|
|
|
[Ханинова 2025a]
Итак, в современной калмыцкой русскоязычной лирике образ ковыля неравномерно представлен в творчестве указанных поэтов – редко или часто. Наиболее широко фитоним ковыль присутствует в стихах Василия Чонгонова, особенно во второй его книге «Сансары отраженный лик» (2009).
Общим для всех авторов является связь ковыля с родным краем, калмыцкой степью, национальным ландшафтом. Автобиографические детали актуализируют личностное отношение поэтов к заявленной теме. Типичны сравнения ковыля с волнами, волосами, эпитеты белый, седой, волнистый, эпитет степи как ковыльной, седой.
Ср. метафоры, сравнения и эпитеты травы у Д. Насунова (ковыльная тишина, багровый ковыль), у О. Манджиева (неказистый стебель ковыля), у В. Лиджиевой (ковыльная шаль, строй погибших на войне солдат как строй тревожных ковылей, ковыль нетленный), у В. Чонгонова (бунчук Чингисхана, саван, ковыльный чуб, ковыльные локоны, ковыльная грива, бахрома, ковыль немногословный, печальный, пожелтевший), у Р. Ханиновой (хан степи, ханство ковыля, рати ковылей, бунчуки из остей, разные цвета бунчуков-ковылей).
Ковыль обычно предстает во многих стихах динамичным: бежит, льнет, тяжко дышит, качается, стелется, шевелится, скрипит, хрустит, вьется, никнет, привстанет, восседает. Цветовая палитра травы в основном белая. Исключение: ковыль серебрится, белый, черный и красный бунчуки ковыля. Акустический код растения связан с ветром: шум ковыля, поет ковыль.
Исторический ракурс этого фитонима присутствует в нарративах В. Чонгонова и Р. Ханиновой.
В фольклорной традиции трава имеет антропоморфный признак в стихах авторов. Психологический параллелизм в них определяет взаимосвязь человека и природы.
Фитопортрет ковыля дан в стихах П. Чужгинова и Р. Ханиновой.
В жанровом отношении ковыльная тема не отличается разнообразием в современной калмыцкой русскоязычной лирике. Ср. у Р. Ханиновой: сновидение, триады, вертикальные стихи.
Поскольку в калмыцком фольклоре отсутствуют легенды и предания о появлении ковыля, постольку их нет и в стихах поэтов. Нет и авторских текстов на эту тему.
В то же время поэты не обращаются к описанию ковыля как корма для скота или, наоборот, вредоносного в пору созревания плодов, как букета-украшения для дома, как оберега.
Ковыль в калмыцкой русскоязычной лирике изображен большей частью весною и летом в степном ландшафте. Обычно поэты не выделяют в описании те или иные части растения, дается общее название «ковыль».
Фитопортрет ковыля П. Чужгинов назвал с географической локацией – «Ковыль Калмыкии», Р. Ханинова – с определением «Калмыцкий ковыль», с метафорой «Хан степи – ковыль».
По сравнению с калмыцкой лирикой ХХ – начала XXI в. у русскоязычных авторов ковыль не показан при описании языческих и буддийских обрядов, например, на праздник Зул: ритуал «нас утулх» («продлить возраст»), когда используются стебли растения. См. в стихотворении Анджи Эрдниевича Тачиева (1920–1993) «Йиртмҗ» («Вселенная») [Тачиев 1982: 34]. Или на праздник Урс Сар у Аксена Илюмджиновича Сусеева (1905–1995) в стихотворении «Эгчин туск дун» («Песня о сестре», 1967) [Сусеев 1983: 332]. Фитопортреты ковыля представлены только в стихах Михаила Ванькаевича Хонинова (1919–1981) «Хальмгин цаһан толһата ѳвсд» («Калмыцкие ковыли», 1974) [Хонинов 1974: 64–66] и Эрдни Антоновича Эльдышева (г.р. 1959) «Цаһан ѳвснә дун» («Песня ковыля», 2007) [Эльдышев 2013: 16].
Об авторах
Римма Михайловна Ханинова
ФГБУН Калмыцкий научный центр Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: khaninova@bk.ru
зав. отделом фольклора и литературы, ведущий научный сотрудник Россия
Список литературы
Дополнительные файлы