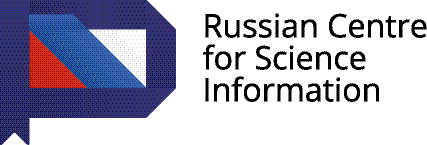Jacques Derrida's "Cliche" and its philosophical and ethical implications in photography
- Autores: Gaynutdinov T.R.1
-
Afiliações:
- Edição: Nº 9 (2025)
- Páginas: 106-120
- Seção: Articles
- URL: https://journals.rcsi.science/2409-8728/article/view/364115
- EDN: https://elibrary.ru/VPWFBC
- ID: 364115
Citar
Texto integral
Resumo
Palavras-chave
Texto integral
С момента своего появления в 1839 году и на протяжении почти двухсот лет фотография вызывала множество философских размышлений, касающихся, как онтологии фотографического образа, так и обширной рефлексии по поводу его функционирования в обществе. Особое значение проблема фотографии приобретает в контексте деконструкции Жака Деррида: он не просто рассматривает фотографию, как технический процесс (хотя целый ряд сущностных особенностей фотографии являются именно следствием её технических характеристик), но и исследует её философские коннотации, связанные с вопросами памяти, следа, смерти, работы траура, приостановки или того, что сам Деррида называет «страстью к задержке» [1, с. 22]. В данной статье, обращаясь к поздней публикации философа «Demeure, Athènes» [1], мы попытаемся проанализировать, как философия Деррида помогает нам понять сложные отношения между фотографией и присутствием, а также как его идеи могут быть применены для критического осмысления современного визуального опыта.Актуальность настоящей статьи объясняется отсутствием в русскоязычной философии самого корпуса текстов Жака Деррида [1-3], связанных с фотографией. До сих пор остаются непереведенными и неизданными в России публикации Деррида, так или иначе обусловленные темой фотографии. По всей видимости, одним из следствий отсутствия русскоязычных переводов, является непроработанность этой проблемы в отечественной философии несмотря на, как нам кажется, востребованность вопросов фотографии и, шире, визуальных медиа, в современном философском дискурсе. Более того, практически отсутствует, если не считать биографии философа [4], даже упоминание этих работ (и, в частности, текста, к анализу которого мы обращаемся в настоящей статье) в русскоязычном академическом дискурсе.
В конце 1996 года в небольшом афинском издательстве «Olkos» тиражом 2000 экземпляров вышла книга «Athènes à l'Ombre de l'Acropole» («Афины в тени Акрополя») – двуязычное (французский и новогреческий языки) издание, выстроенное вокруг серии из тридцати четырех фотографий Жана-Франсуа Бонома и небольшого текста Жака Деррида. Сам текст философа озаглавлен «Demeure, Athènes» и перевод этого названия на русский язык представляется довольно сложной задачей, что, впрочем, весьма характерно для работ Деррида. Мы постараемся выделить несколько основных векторов возможного перевода: французское «demeure» можно прочитать в качестве существительного в значении дом, жилище, местопребывание, обитель (сам Деррида замечает, что французское “demeure” – это буквально все «от дома до храма», вплоть до «la dernière demeure», то есть могилы – места последнего упокоения [1, с. 19]; либо как глагол, означающий оставаться, пребывать, постоянно проживать. Также для Деррида, и нам ещё предстоит это увидеть, принципиально важно устаревшее значение данного слова: «отсрочка», «задержка» или же в глагольной форме «откладывать», «отсрочивать». Время и обязательства, которые оно накладывает, отложенная смерть, но и промедление, смерти подобное – Деррида, так или иначе, обыгрывает в своем тексте все эти значения французского слова «demeure» наряду с рядом связанных с ними идиом. Английское издание данного текста, впервые вышедшее лишь в 2010 году (следом за вторым французским), то есть уже после смерти Деррида, озаглавлено «Athens, still remains» [5] – «Афины, всё ещё остающиеся», но в примечании переводчик отмечает, что это название является не столько строгим переводом, сколько весьма приближенным переносом смысла в семантическое поле английского языка, лишь отчасти коррелирующим с оригинальной формулировкой философа.
Сочетая философские размышления о смерти и работе траура, времени и его отсрочивании, событии и повторении, с рассказом о собственной поездке в Афины в 1996 году и комментариями к фотографиям Жана-Франсуа Бонома, «Demeure, Athènes» является одним из самых личных и трогательных текстов Деррида, не впадая при этом в сентиментальность и отчетливо находясь в русле философского дискурса. Деррида напоминает нам, что слово «фотография» греческое по своему происхождению и буквально означает «пишу светом», некую практику светописи, и сегодня сама тема фотографии объединяет в единое целое, как вполне современные вопросы, которые условно можно определить словами Беньямина «произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» [6], так и гораздо более древние вопросы об отношениях между светом и тенью, истиной и ложью, памятью и забвением – другими словами, огромную философскую традицию, которая впервые появилась на свет в тени Акрополя.
Тридцать четыре фотографии, которые связаны друг с другом, отвечают друг другу, и комментарий Жака Деррида, использующий в качестве отправной точки клишированную фразу «nous nous devons à la mort». Сам Деррида говорит о непереводимости этой фразы на другие языки, её принципиальной погруженности во французскую грамматику («Я сразу же объявил её непереводимой» [1, с. 52]), что делает любые наши попытки заранее обреченными на неполноту и неотвратимо оставляет нас в должниках. «Nous nous devons» происходит от первого лица множественного числа возвратного глагола «se devoir», однако выявление лексико-синтаксической структуры этой фразы автоматически не открывает возможность её точного перевода. В настоящей публикации мы будем переводить конструкцию «nous nous devons à la mort», как «мы должны себя смерти», осознавая при этом все ограничения, которые этот перевод с неизбежностью накладывает на нас, а также его неспособность полновесно передать удвоение «мы» («nous nous») и то зеркальное отражение, которое оно рождает, и о котором столь настойчиво пишет Деррида, особенно в последних главах («клише») своей работы: «Что касается удвоения nous в «nous nous devons à la mort», то, без сомнения, это сложно, если не невозможно сохранить в другом языке…» [1, с. 54]. Поэтому лишь экономия дословного перевода и внутренняя логика текста обязывают нас остаться в этой трансферной точке – «мы должны себя смерти». Эта фраза пришла в голову Деррида в среду, третьего июля 1996 года, когда «пылало солнце, которого я никогда прежде не знал» [1, с. 52] и философ находился в Афинах, то есть в том самом городе, где были сделаны снимки Бонома. Фотограф подарил их Деррида немногим ранее, заручившись при этом обещанием последнего написать небольшой текст. Это трудно назвать заказом, скорее уж дружеским жестом, впрочем, как известно, именно такого рода жесты накладывают на вас наибольшие обязательства, оставляя в извечных должниках. И всё же Деррида рискнул и принял этот вызов: взяв с собой несколько десятков фотографии Бонома, он отправился в Грецию. Вот только здесь Деррида ведет речь о долге неизмеримо большем: «мы должны себя смерти» – с этой фразы начинается книга и она сразу же вступает в диалог с первой фотографией альбома Боннома, изображающей аллею гробниц древнейшего афинского кладбища Керамейкос, а также одну из его случайных могил с именем Аполлодора. Каждая надпись на этих могилах предъявляет нам имя собственное – имя ушедшего, сгинувшего в царстве Аида. В отсутствие человека, остается лишь имя, оно и выбивается на теле камня, как образ проступает на фотографии в момент проявки.
Жан-Франсуа Боном на протяжении пятнадцати лет фотографировал Афины. За время этой «медленной и неторопливой прогулки по Афинам продолжительностью в пятнадцать лет» в «темпе медитации о бытии и времени, бытии-и-времени в его греческой традиции» [1, с.11], Боном создал огромный массив снимков, но из всей этой серии, почти уводящей нас в бесконечность, в книгу попали лишь тридцать четыре отпечатка, которые Деррида с недвусмысленной отсылкой к Хайдеггеру назвал «Бытием и временем в век фотографии» [1, с. 20]. Бытием и временем ещё и в смысле реализации Бономом установки, которую Хайдеггер словами диалога «Софист» Платона высказывает на первых страницах своей определяющей работы: «Первый философски шаг в понимании проблемы бытия состоит в том, чтобы “не рассказывать истории”» [7, с. 20] (в других вариантах перевода на русский язык этого предложения мы можем также встретить не рассказывать «сказки» [8, с. 309] или же «мифы» [9, с. 128]). В итоге, взамен единому и цельному повествованию, альбом Бонома распался на тридцать четыре фрагмента, фотофрактала, осколка, наподобие тех, что можно найти на руинах разрушенных храмов, в окружении погребальных стел, скопления надгробий, крестов и обезглавленных статуй.
Деррида неоднократно обращался к идее серийности: мы уже писали о «башмаках Ван Гога» [10], к которым философ обращается в работе «Истина в живописи» [11]; в этой же работе он рассматривает серию из 127 коробок-гробов французского художника Жерара Титуса-Кармеля. Впрочем, каждый раз, когда Деррида обращается к идее серийности в том или ином её воплощении, его также интересуют те вещи, которые из этой серийной выборки были исключены, а также причины этого исключения. Нечто оставшееся на периферии взгляда или даже за его пределами, лишенное его легитимности, некоторый невидимый, а потому и невыразимый остаток, почти утраченный, но тем не менее существующий. Так же и в случае альбома Бонома нам остается лишь гадать, какие фотографии не попали в этот итоговый перечень, и каковы были причины их исключения. Так или иначе перед нами тридцать четыре фотографии, которым вторит текст Деррида, состоящий из двадцати глав, которые он называет «cliché», используя римскую нумерацию для их разграничения, в то время как тридцать четыре фотографических «клише» Бонома «сосчитаны» с использованием арабской нумерации. Французское слово «cliché» является производным от глагола «clicher» – щелкать – и впервые стало использоваться в начале девятнадцатого века французскими печатниками в качестве жаргонного обозначения слепка или пластины (стереотипа), снятой с поверхности литерной формы, позволявшей в дальнейшем многократно воспроизводить текст. В момент вдавливания литерной формы в расплавленный металл для образования печатной матрицы происходит щелчок – он-то и дал название этому процессу. Благодаря такому звукоподражанию данный термин из жаргонного довольно быстро превратился в широко употребимый по крайней мере в печатном деле, а позже перекочевал и в другие языки. Конечно, сейчас определяющим значением этого термина являются речевые клише, избитые, стереотипные фразы и прочее. Однако, во французском языке клише – этот также фотография, отпечаток, снимок, кадр, негатив фотографии и т.д. Не стоит упускать из виду и щелчок, который возникает при спуске затвора фотоаппарата, но также и щелчок от удара пальцем по клавише пишущей машинки или клавиатуре компьютера: к 1996 году, когда Деррида писал «Demeure, Athènes» он был уже – позволим себе ещё одно устаревшее клише – опытным пользователем персонального компьютера.
На каждом шагу фотографического путешествия Бонома по Афинам и его своеобразного философского повторения Деррида так или иначе встает вопрос о смерти, и не только потому, что «мы, оглядываясь, видим лишь руины» [12, с. 11], а среди них – монументальные знаки смерти: скопление надгробий на кладбище Керамейкос, Афинский Акрополь, театр Диониса. Приходя к развалинам «постепенно научишься многим вещам, очень многим» [13, с. 74], и один из уроков, который дает нам фотография, фиксируя исчезающие формы бытования, это, безусловно, урок угасания. Многое из того, что Боном фотографировал на протяжении пятнадцати лет, уже перестало существовать. Каждый фотограф отмечен печать траура, будучи свидетелем уходящего, ему остается лишь выжить самому и нести этот траур по утраченному времени. Каждый фотограф задолжал себя смерти – это она всегда дает ему лучший кадр, а вместе с ним образ – чистый, даже сквозь пелену слез, в своем холодном дыхании смерти. Вот старый блошиный рынок на улице Адриана, взамен которого сейчас лишь бездна безликих сувенирных лавок, чей товар большей частью сделан в Китае; а здесь над кафе на площади Омония была некогда яркая неоновая вывеска, но нет уже более ни того кафе, ни той вывески. Фотограф заявляет об этой утрате, не срываясь на крик, сохраняет монохромную отстраненность свидетеля. Он присматривает за городом, фиксируя точки рождения и смерти – рождения, что всегда оборачивается смертью. Фотография, удерживая образы, одновременно уничтожает или, по крайней мере, радикально модифицирует эмпирическое присутствие. Множественные артефакты, зафиксированные фотографом, «демонстрируют привязанность к ушедшему в прошлое, скорбь, сохраняющую в себе то, что теряется в процессе удержания. Признание долга или долговой расписки в отношении смерти подписано каждым объектом, отраженным, как в фотографическом акте, так и в самой структуре фотограммы. И это происходит, независимо от того, что представлено, независимо от темы, содержания или объекта изображения, даже когда смерть не явлена в кадре прямо или окольным путем» [1, c. 52]. Немного перефразируя Томаса Стернза Элиота, можно сказать, что каждая фотография есть эпитафия «и каждое действие – шаг к преграде, к огню, / К пасти моря, к нечетким буквам на камне: / Вот откуда мы начинаем. / Мы умираем с теми, кто умирает; глядите – / Они уходят и нас уводят с собой. / Мы рождаемся с теми, кто умер: глядите – / Они уходят и нас уводят с собой. / Мгновение розы равно мгновению тиса / По длительности» [14].
В самом начале книги «Demeure, Athènes» Деррида замечает, что фраза «мы должны себя смерти» пришла к нему «около полудня» [1, с. 19] – то есть в момент верхней кульминации солнца. После этого солнце начнет опускаться и это принципиально важно для Деррида: нужно, чтобы солнце зашло – только так оно сможет остаться. Эта фраза – «мы должны себя смерти» – застала его врасплох, быть может, как и сама смерть, которая способна прийти неожиданно, даже если ты её настойчиво ждешь. «Указанная фраза, возникшая неведомо откуда, более не принадлежала мне. Впрочем, она никогда и не была моей, я ещё не чувствовал себя в ответе за нее. Мгновенно перешедшая в общественное достояние, она пересеклась со мной. Она прошла через меня, она сказалась в этом переходе. Став скорее ее заложником, чем ее хозяином, я должен был оказать ей гостеприимство, да, хранить ее в целостности, я, конечно, был ответственен за такое сохранение, за спасение каждого из ее слов, отвечал за неприкосновенность каждой буквы, связанной с каждой буквой. Но тот же самый долг, та же самая обязанность диктовала мне не брать ее, эту фразу, целиком, ни в коем случае не завладевать ею как фразой, мной подписанной. Она, впрочем, и оставалась неприступной» [1, с. 14-15].
В фразе «Мы должны себя смерти» – «мы», конституируется в качестве объекта. «Мы» здесь рассматривает себя со стороны второго «мы» (удвоенное «nous» во французском оригинале), как нечто должное, в смысле обусловленного долгом, который предшествует нам и обязывает нас ещё до того, как мы заключили этот пакт наследования. «Мы» превращается здесь в своеобразный товар или залог, что-то уже обещанное другому, подлежащее возврату, словно «какая-то вещь» [1, с. 55]. «Мы» являемся себе, рассматриваем себя, как нечто одолженное, взятое ненадолго взаймы у смерти, которая предшествует нам и учреждает нас. Смерти, которая прежде жизни и с неизбежностью оставляет нас в должниках, берет нашу жизнь в залог, придерживает её лишь в качестве разменной монеты. Уведомление с долговой распиской уже отправлено нам и нет смысла юлить и скрываться – вот, что проявлено на каждом фото. В каждом снимке мы находим сущее, которое ушло или исчезло, оставив по себе лишь этот высвеченный кадр. А вот ещё одно речевое клише, которого также касается Деррида, – «он нашел свою смерть», как если бы смерть играла с нами в прятки, прячась по темным углам, настойчиво скрывала себя в укромных местах, и отыскать её там большая удача, удел лишь редких счастливцев, проделавших столь долгий путь, но продолжающих хранить надежу на всем его протяжении. Хранить в смысле хоронить, то есть сохранять, сберегать и прятать, удерживать ускользающее время, уплывающий Хронос, трудолюбивого и мрачного старца Харона, что гонит лодку шестом по водам темного Ахерона. На каждом фото «мрачный и грязный Харон. Клочковатой седой бородою / Все лицо обросло – лишь глаза горят неподвижно, / Плащ на плечах завязан узлом и висит безобразно» [15, с. 249]. Он напоминает нам о нашем долге и готов взыскать его, дав лишь небольшую отсрочку, буквально мгновение, ещё один взгляд назад на то, что утрачено безвозвратно.
Тем же вечером третьего июля, когда Деррида завладела фраза «мы должны себя смерти» («она прошла через меня»), он должен был сесть на самолет и покинуть Афины (хочется написать «навсегда», хотя, разумеется, это не так), так что тема отсрочки лежала на поверхности этого жаркого дня, наполнившего солнечным светом совершенную красоту архитектуры греческой античности. Возможно, именно этот факт подтолкнул его «задержаться» на механизме отложенной съемки, который позволяет фотографу реализовать процесс фотографирования с задержкой в несколько секунд и, например, самому оказаться в кадре. Этот механизм совершенно банальный сейчас технически является, одновременно, абсолютным событием метафизически. Согласно Деррида, он позволяет фиксировать настоящее в будущем, то есть совершает своего рода темпоральную революцию. Прежде самого времени есть некая задержка, что и находит свой отклик в определяющем для Деррида понятии «différance» (различание). Эта задержка никогда не существует в настоящем, но без неё невозможно никакое движение жизни, никакое движение мысли. Именно это более всего и интересует Деррида в фотографии. С отложенной съемкой или же без неё, но фотография всегда немного запаздывает. В самом процессе съемки мы уже обречены на заминку и отставание – отставание, как условия оставления. В поисках кадра, в поисках мгновения, которое мы хотим зафиксировать, мы уже опаздываем, уже отстаем, так что фотография – это всегда поиск утраченного времени, технически совершенное скольжение назад, сквозь время, в сквозную рану времени. В объективе фотокамеры уже ощущается ностальгия, но не в смысле скорби по утраченному, а, скорее, в смысле своеобразной попытки архивирования настоящего.
Казалось бы, фотография предоставляет нам лучшие возможности для удержания, сохранения и воспроизводства информации, но самой практике архивации здесь подвергаются уже утраченные, выскользнувшие в мимолетной задержке мгновения. Фотография — это удержание утраченного, растерянного в процессе объективации в кадре. В своих лекциях, посвященных теории образа, Елена Петровская обращает внимание, что Деррида в своем описании феномена фотографии «использует ряд феноменологических терминов, в том числе понятия ретенции (удержание прошлого в настоящем) и протенции (предвосхищение будущего в настоящем). Казалось бы, мы здесь имеем некое квазинастоящее, которое является истоком, как прошлого, так и будущего. Вполне в духе мысли Августина, который, как известно, также говорит о трех измерениях настоящего, своеобразном стягивании времени в единую точку живого присутствия. Однако у Деррида мы имеем дело скорее с расщеплением этого присутствия и того, настоящего, которое должно было его сформировать. Собственно «différance», это прошлое, у которого никогда не было настоящего, и будущее, которое никогда не будет его иметь. Деррида отказывается от привилегированной позиции настоящего и налично данного бытия. Настоящее не собирает на себе время, но, напротив, распадается, расфокусируется, «оно дискретно, в него вторгается пространство, и время претерпевает становление пространством. Перед нами гетерогенная структура, точнее говоря – структура событийная» [16, с. 166].
В тексте «Demeure, Athènes» Деррида настойчиво обращается к образу солнца: с одной стороны, свет солнца всегда приходит к нам в качестве следа, с небольшой задержкой продолжительностью чуть более 8 минут, то есть уже лишь в качестве исчезающей величины, но, с другой стороны, это все же происходит, раз за разом, это все еще происходит, несмотря ни на что. Поэтому Деррида замечает, что на каждой фотографии будет вечно светить солнце, даже на самой темной и мрачной, снятой в лесной чащобе в пасмурный день, или в закрытом подвале, без единой прорези света – даже там всегда будет светить солнце. В этом почти исчезнувшем следе мы обнаруживаем фундамент механизма задержки и различания (différance), то есть сущность самой фотографии, но это также именно то, что позволяет деконструировать работу траура, долга, вины. Этот исчезающий след, почти стертый шлейф уходящего света, так же, как и каждая фотография его вбирающая, является своеобразным авансом жизни перед лицом неотвратимости смерти. Деррида сравнивает это с судебный процессом над Сократом, точнее с вынужденной отсрочкой в исполнении приговора, которая была с ним сопряжена. Вердикт уже вынесен, а следом за ним суд оглашает обвинительный приговор: «мужи афиняне» приговаривают Сократа к смерти. Однако, приведение приговора в исполнение вынуждены отложить. Оглашенный приговор суда и его исполнение разделяют тридцать дней по свидетельству Критона [17] – самого старшего ученика Сократа и первого, кто увидел в нем учителя. Столь длинный срок ожидания объясняется «чистой случайностью»: «Вышло так, что как раз накануне приговора [Сократу] афиняне украсили венком корму корабля, который они посылают на Делос» [18, с. 7], как делают они каждый год в память о чудесном спасении Тесея и семи пар юношей и девушек, а также убийстве им Минотавра, скрытого в Кносском лабиринте Дедала. «С той поры и поныне они неукоснительно, год за годом» снаряжают корабль, поскольку «дали тогда Аполлону обет: «если все спасутся, ежегодно отправлять на Делос священное посольство… И раз уж снарядили посольство в путь, закон требует, чтобы все время, пока корабль не пребудет на Делос и не возвратится назад, город хранил чистоту и не один смертный приговор в исполнение не приводился. А плавание иной раз затягивается надолго, если задуют противные ветры… Потому-то и вышло, что Сократ пробыл так долго в тюрьме между приговором и кончиной» [18, с. 7-8].
Сократ уже смирился со смертью, которая ему обещана полисом, он уже ощущает вкус яда на языке, но живет отложенной смертью, оказываясь перед ней в долгу. «Мизансцена запущена, уведомление отправлено, обратный отсчет уже начался, есть только задержка, время фотографировать… Я думаю о смерти Сократа, о Федоне и Критоне, о невероятной отсрочке, которая отложила дату казни на столько дней после суда. Они ждали парусов, их появления вдали, на свету, в точный, неповторимый и неотвратимый момент — роковой, как щелчок (клише)» [1, с. 28]. Эта вынужденная и странная отсрочка вовсе не желанна Сократом: «Я ведь не надеюсь выгадать ничего, если выпью яд чуть попозже, и только сделаюсь смешон самому себе, цепляясь за жизнь и дрожа над последними её остатками» [18, с. 78]. В последние дни жизни, буквально отданной на откуп переменчивым ветрам, Сократу снится сон, в котором «прекрасная и величественная женщина в белых одеждах» зовет его по имени и сообщает: «Сократ! В третий день ты, без сомнения, Фтии достигнешь холмистой» [17, с. 98]. Расшифровка этого сна не составляет труда для Сократа: он отсылает к прекрасно ему знакомому эпизоду из «Илиады» Гомера, в котором Ахилл, оскорбленный Агамемноном, забравшим его пленницу Брисеиду, и, отвергая его примирительные дары, говорит о своем отплытии «рано с зарей» из Трои: «Если счастливое плавание даст Посейдон мне могучий, / В третий день я, без сомнения, Фтии достигну холмистой» [19, с. 158].
После этого сна, точнее той околдовывающей грезы, – женского образа, одновременно обольстительного и завораживающего, – которая в нем заложена, Сократ не просто знает, что приговорен к смерти, но также и точно может назвать момент, когда ему предстоит уйти. Он отвергает любую иную возможность и отказывается бежать из Афин, к чему призывают его ученики и друзья, рассказывая им «о заботе или практике смерти…, дискурсе скорби и отрицания скорби, обо всей философии» [1, с. 31]. Он использует свою отсроченную смерть, чтобы придаться мечтам, отдаться грёзе и сну, а вместе с ними музыке и поэзии, которыми он прежде столь слепо пренебрегал, фактически не обращая на них внимания. Тридцать дней и ночей, тридцать дней мечтаний и грез, но лишь один и тот же сон, что много раз был явлен прежде: «В течение жизни мне много раз являлся один и тот же сон. Правда видел я не всегда одно и то же, но слова слышал всегда одинаковые: “Сократ, твори и трудись на поприще Муз”. В прежнее время я считал это призывом и советом делать то, что я и делал. Как зрители подбадривают бегунов, так, думал я, и это сновидение внушает мне продолжать мое дело – творить на поприще Муз, ибо высочайшее из искусств – это философия, а ею-то я и занимался. Но теперь, после суда, когда празднество в честь бога отсрочило мой конец, я решил, что, быть может, сновидение приказывал мне заняться обычным искусством, и надо не противиться его голосу, но подчиниться: ведь надежнее будет повиноваться сну и не уходить, прежде чем не очистишься поэтическим творчеством. И вот первым делом я сочинил песнь в честь того бога, чей праздник тогда справляли, а почтив бога, я понял, что поэт – если только он хочет быть настоящим поэтом – должен творить мифы, а не рассуждения» [18, с. 10-11].
В отличие от провидческого сна с прекрасной девой, здесь важен не столько образ или феномен, явленный взору, своеобразная фотография («видел я не всегда одно и то же»), сколько голос и слова, которые образуют достаточно точное предписание или даже приказ: “Сократ, твори и трудись на поприще Муз”! Сократ оказывается в должниках у Аполлона, который подарил ему отсрочку в исполнении приговора, и, конечно же, философ намерен этот долг отдать прежде, чем он расплатится по долгам со смертью (и вновь рефреном явленная фраза Деррида «мы должны себя смерти»).
Дурными ветрами затянувшееся плавание памяти, и волей случая отложенная смерть даруют нам поэзию Сократа: «Слава тебе, Аполлон Делиец с сестрой Артемидой!» – так, по свидетельству Диогена Лаэртского, начинался пеан Сократа, сочиненный им в ожидании смерти и прославляющий Аполлона [20, с. 117]. Приговор давно объявлен, но смерть никак не придет – у мойр свои затеи и Харону еще немного придется подождать на берегу. Что ж, это славное время, когда можно вернуться к собственным снам, общаться с друзьями, ежедневно ожидающими встречи подле тюремных дверей, и отдать должок Аполлону (хуже нет, умирать в должниках), прославив имя его в веках хвалебным гимном: «Слава тебе, Аполлон Делиец с сестрой Артемидой!». Пеан, возможно, вышел средней руки (впрочем, нам трудно об этом судить по единственно дошедшей до нас первой строке), но вкупе с кораблем, украшенным лавром, был благосклонно принят сыном Зевса. По крайней мере, хочется в это верить. На побережье мыса Сунион, в ожидании корабля, некогда принадлежавшего отважному Тесею, задержанного непогодой в своем сакральном пути на Делос, Сократ проживает другую жизнь. В эти тридцать дней и ночей, почти слитых в единстве поэтической грезы, он заново открывает себя. Конечно, пребывая в заключении, он не мог видеть море, стелющееся перед храмом Посейдона, но, несомненно, держал этот образ в памяти, многажды видя прежде паруса гонимого ветром судна: «Слава тебе, Аполлон Делиец с сестрой Артемидой!».
Смерть должна прийти в Афины вместе с кораблем, снаряженным в «священное посольство» Аполлону. Так же произошло столетия прежде, когда Эгей, завидев черные паруса корабля Тесея, сбросился со скалы. Забывчивость Тесея, стоила жизни его смертному отцу. На этот раз паруса обязательно будут белого цвета, но это уже не спасет Сократа: едва корабль вернется в порт, город простится с нарядом хрустальной чистоты и вновь будет вершить правосудие. Всё крутится вокруг водной глади – Эгейского моря, амниотической жидкости, ванночки для проявки фотографий, ковша родниковой воды для омовения («Ну пора мне, пожалуй, и мыться: я думаю, лучше выпить яд после мытья и избавить женщин от лишних хлопот – не надо будет обмывать мертвое тело» [18, с. 76]), чаши с цикутой, что испил Сократ до дна и бесчисленных слез, пролитых его учениками («слезы лились ручьем», – сообщает Федон [18, с. 79]), вод черного Стикса и холодного Кокита: «Потоков много, они велики и разнообразны» [21, с. 203]. Всюду вода и, быть может, поэтому в другом философском эссе на тему искусства [22] Деррида сравнивает жидкость, в которой проявляется негатив аналоговой фотографии (проявитель), с амниотической жидкостью: «вода, прежде всего, перинатальная (амниотическая жидкость, струящаяся по телу новорожденного, который упрямо движется между ног женщины, чтобы слепо на ощупь отыскать свой млечный путь), и потом, это вода, в которой, все в той же воде, плавает негатив фотопленки – когда проявка трепещет перед достоверностью, трепещет всем своим телом и дарит нам размытое изображение, еще подвижное, текучее, как ассоциации сновидения, отражение того, что будет вскоре запечатлено на пленке: неизбежность того, что не замедлит превратиться в человека, во плоти…» [22, с. 219]. И страницей далее совет, которым мы не в силах руководствоваться, и именно поэтому императивно следуем ему всегда: «… проявляйте ваши фотографии впредь в амниотической жидкости» [22, с. 220].
Внутри водной глади, на прежде чистом слепом листе фотобумаги рождается эхо памяти, единожды отраженная сетчатка глаза. Так в темноте и тишине закрытой комнаты проявляет себя трепетная и безмолвная истина, призрачная и плотская одновременно, пропитанная памятью с вкраплениями снов. Но это память, лишенная кредита доверия, прибегающая к клюке и протезу. Память, что боится остаться наедине с собой, а потому создающая своё призрачное удвоение. Внутри этой комнаты с неактиничным светом, преображающим очертания любого тела, превращая его лишь в дымку, едва осязаемый объект, проявляет себя истина фотографии.
Подлинная сущность фотографии, её явленная, а точнее проявленная сила здесь – в глубине Амниотики дикой открывается глазам твоим, если перефразировать начало известного стихотворения Умберто Саба в переводе Иосифа Бродского. В этой уязвимости (стоит лишь приоткрыть дверь, впустив туда потоки света, как все усилия будут мгновенно стерты вместе с очертаниями фигур, обреченных остаться лишь тенью) фотографии, её ранимости и текучести сквозит слабость памяти. Возможно, сама серийность и техническая воспроизводимость фотографии – это попытка реституции её уязвимости и хрупкости.
Фотограф, занимающийся проявкой своих фотографий, напоминает роженицу и повитуху в одном лице, он выполняет двойную работу, всегда взваливая на себя слишком много – вереницу образов и решимость во что бы то ни стало их сохранить, удержать на водной глади листа, погруженного в прозрачные воды проявителя. И вот, спустя лишь несколько мгновений, на этом прежде абсолютно белом листе проступают очертания корабля «священного посольства» Аполлона – он по-прежнему в пути, но, разрезая водную гладь моря, всё ближе к возвращению в Афины. Аполлон – сын Зевса и Лето, рожденный на Делосе после девяти дней мучительных схваток гонимой матери, лучезарный Феб, чей божественный свет доходит до нас с задержкой, приостанавливает исполнение приговора: «Слава тебе, Аполлон Делиец с сестрой Артемидой!». Боги, в отличии от людей, не торопятся напоить Сократа цикутой. Жак Деррида сравнивает эту задержку корабля и, соответственно, смерти Сократа с процессом фотографирования: то, что отражается в этом процессе уже приговорено к смерти, но продолжает жить. Фотография, говорит Деррида, сопротивляется смерти, она приостанавливает судебный запрет, откладывая его на неопределенное время. Она подвешивает время, точнее погружает его внутрь воды, настороженно ожидая проявки размытых образов. Словно вы пишите акварелью, забывая промакивать кисть, так что фигура размывается быстрее, чем обретает очертания.
Цикута является ядом, но посредством сократовского логоса превращается в средство выздоровления и освобождения от земных невзгод (фармакон): «я с вами не останусь, но отойду в счастливые края блаженных» [18, с. 77]. Не эту ли фразу произносит Сократ на известной картине Жака-Луи Давида «Смерть Сократа», символически написанной незадолго до Французской революции? Стало быть, отмечает Деррида, цикута является своего рода фармаконом бессмертия, поэтому последние слова Сократа на смертном одре: «Мы должны Асклепию петуха» [18, с. 80] – таков был обычай в Античной Греции: после выздоровления больного преподнести богу врачевания Асклепию петуха. И не является ли упрямая в своей неотступности фраза Деррида «мы должны себя смерти» парафразой последних слов Сократа, к признанию его долга – долга жизни, за который расплачиваются смертью? Впрочем, сам Деррида, недвусмысленно реконструируя сократическую генеалогию собственной клишированной реплики, упреждает нас от излишне однобокого её восприятия: «… это не обязательно должно пониматься в смысле великой постсократической и жертвенной традиции бытия-ради-смерти, этики преданности и самоотдачи, которая сразу же включает это предложение в свою сферу влияния, чтобы сказать, например: мы должны посвятить себя смерти, у нас есть обязанности по отношению к смерти, мы должны посвящать ей наши размышления, нашу заботу, наши медитации, наши упражнения и нашу практику (epimeleia tou thanatou, melete thanatou, как говорится в "Федоне" 81а), мы должны посвятить себя смерти, к которой мы предназначены и так далее» [1, с. 53].
Жертвенно-сократическая добродетель отнюдь не исчерпывает резерв витиеватой фразы Деррида. Более того, гораздо важнее для Деррида не факт принятия смерти Сократом («не убегая и не спасая свою шкуру, он спасает себя, а вместе с собой – философию и всю ту музыку, которая и есть философия, “величайший вид музыки”» [1, с. 53]), а тот временной зазор, который образуется между вынесением вердикта и белоснежными парусами корабля, вернувшегося в гавань у мыса Сунион. В контексте темы фотографии именно это промедление, эта божественная задержка находится в фокусе философии Деррида. Между появлением изображения в фокусе, непосредственным фотографированием, проявлением фотографии, её печатью и моментом, когда на неё смотрит зритель, формируются интервалы, которые откладывают смерть. Сама фотография, поселившись в этих временных зазорах, протестует против смертного приговора, она обещает нам пусть и всегда временную передышку, своеобразную «остановку в пути», подобную той, что обрел Хайдеггер, впервые ступив на берег Делоса в 1962 году [23].
Говорят – разумеется, излишне простодушно, – что фотография удерживает мгновение, но это всего лишь иллюзия, рожденная технически совершенным фокусом. В действительности, всё ровным счетом наоборот: как только мы фиксируем кадр нажатием кнопки спуска, происходит задержка – всегда есть заминка, промедление, небольшой временной зазор, почти незаметный люфт. Внутри этого просвета или, скорее даже, хроносвета фотообраз протестует против смертного приговора, осознавая при этом его неотвратимость. Каждая фотография несет на себе признание в долгу перед смертью, а также фантазм приостановленного времени, подвешенного на нитях судьбы и света. Живое мгновение оказывается разделенным, спектрально расщепленным прерывистым punctum’ом Барта [24]. Впрочем, как пишет Пьер Клоссовски в книге «Ницше и порочный круг» «мы мыслим себя непрерывными, хотя живем лишь прерывисто» [25, с. 41], так что само наше существование дробно и расколото – пунктирная линия событий, высвеченных не то вспышкой, не то всхлипом. Punctum Барта [26], удерживая, словно в силках, наш взгляд, следом изымает кусок жизни, расщепляет её на фрагменты и атомы.
В заключение можно сказать, что проблема фотографии в деконструкции Жака Деррида раскрывается через призму фундаментальных вопросов времени, памяти и смерти. Время в фотографии не линейно: оно сжимается и растягивается, создавая парадоксальную игру между вечностью запечатленного и его неизбежным исчезновением. Память, сохраненная в снимке, оказывается хрупкой, поскольку она не столько удерживает присутствие, сколько расшатывает его целостность, раскалывая на множество фрагментов. Деррида напоминает нам: «nous nous devons à la mort» — «мы должны себя смерти» [1], и именно этот долг определяет наше отношение к (фото)образу, следу и исчезающему мгновению. В деконструкции фотография, как и письмо, становится пространством отсрочки, однако, в отличие от письма, фотообраз, приостанавливая смерть, накладывая своеобразный мораторий на возвращение «долга смерти», вместе с этим проявляет неизбежность взыскания этого долга. Фотография, подобно фармакону Сократа, одновременно сохраняет и разрушает, фиксируя момент, который уже утрачен. Она — медиум памяти, но памяти призрачной, всегда ускользающей, как само бытие в его различании («différance») [27, с. 109-110]. В этом смысле фотография становится аллегорией времени: она демонстрирует, что любая фиксация — это лишь отсрочка неотвратимого угасания. Деррида показывает, что снимок не воскрешает прошлое и не наследует ему, напротив – он выстраивает систему ложных воспоминаний, разрывая саму ткань времени. Философ формирует своеобразную этику фотообраза, которая теснейшим образом сопряжена с жертвенно-сократической добродетелью, хотя и не исчерпывается ею. Таким образом, фотография в деконструкции Жака Деррида менее всего оказывается техникой репрезентации, но позволяет нам критически осмыслить философско-этические основания современных визуальных медиа.
Bibliografia
Derrida J. Demeure, Athenes, photographies de Jean-Francois Bonhomme. P.: Galilee, 2009. Derrida J. Les morts de Roland Barthes // Derrida J. Psyche. Inventions de l'autre. P.: Editions Galilee, 1987. P. 273-304. Derrida J. Lecture de Droit de regards, de Marie-Frangoise Plissart. P.: Editions de Minuit, 1985. Петерс Б. Деррида. М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2018. Derrida J. Athens, still remains. The photographs of Jean-Francois Bonhomme. Fordham University Press, New-York, 2010. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Краткая история фотографии. М.: Ад Маргинем, 2022. С. 65-123. Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков: Фолио, 2003. Платон. Софист // Собрание сочинений в четырех томах. Т. 2. М.: Мысль, 1993. С. 275-345. Платон. Софист. СПб.: Платоновское философское общество, 2018. С. 128. Гайнутдинов Т.Р. Реституция истины в живописи: «Башмаки» Винсента Ван Гога и их экспликация в философии Жака Деррида. // Философская мысль. 2023. № 4. С. 69-86. doi: 10.25136/2409-8728.2023.4.39965 EDN: TDQKLC URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=39965 Derrida J. La Vérité en peinture. Flammarion, 1993. Бродский И. Письма римскому другу (Из Марциала) // Сочинения Иосифа Бродского. Т. III. СПб.: Пушкинский фонд, 1998. С. 10-13. Бродский И. Современная песня // Сочинения Иосифа Бродского. Т. I. СПб.: Пушкинский фонд, 1998. С. 74-75. Элиот Т.С. Литтл Гиддинг // Элиот Т.С. Стихотворения и поэмы. М.: АСТ, 2013. С. 349. Вергилий. Энеида // Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М.: Художественная литература, 1979. С. 137-404. Петровская Е. Теория образа. М.: РГГУ, 2010. Платон. Критон // Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 97-111. Платон. Федон // Собрание сочинений в четырех томах. Т. 2. М.: Мысль, 1993. С. 7-80. Гомер. Илиада. // Гомер. Илиада. Одиссея. М.: Издательство "Художественная литература", 1967. С. 23-418. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 1979. Платон. Федон // Полное собрание творений Платона в 15 томах. Т. 1. Петербург: Academia, 1923. С. 113-210. Деррида Ж. Чреватые. Четыре размывки Колетт Дебле // Vita Cogitans. 2022. № 5. С. 213-224. Heidegger M. Aufenthalte. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1989. Гайнутдинов Т.Р. Деррида, проявляющий Барта: пролегомены к философии фотографии // Философская мысль. 2024. № 8. С. 70-84. doi: 10.25136/2409-8728.2024.8.71369 EDN: LEIABQ URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=71369 Барт Р. Как жить вместе. Романтические симуляции некоторых пространств повседневности. М.: Ад Маргинем, 2016. Барт Р. Camera lucida. Комментарии к фотографии. М.: Ад Маргинем пресс, 2011. – 272 с. Деррида Ж. Голос и феномен: и другие работы по теории знака Гуссерля. СПб.: Издательство "Алетейя", 1999.
Arquivos suplementares