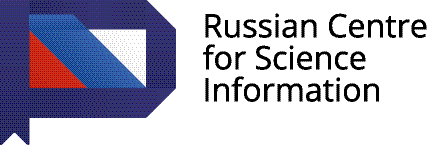Arabic and Persian images in the poetry of N. Gumilyov
- Authors: Ibrahim K.
- Issue: Vol 12, No 5 (2024)
- Section: Статьи
- Submitted: 30.07.2024
- Accepted: 30.07.2024
- Published: 03.10.2024
- URL: https://journals.rcsi.science/2311-2468/article/view/260810
- ID: 260810
Cite item
Full Text
Abstract
The article is devoted to the study of Arabic and Persian images in the poetry N.S. Gumilyov, starting from the first collection of poems "The Ways of the Conquistadors" (1905) and concluding with the poet's last lifetime collection "The Pillar of Fire" (1921), which reflects the journey of the lyrical hero through various exotic countries, primarily in Asia and Africa. Describing the amazing flora and fauna of the Arab countries, the poet was looking for a dialogue with Arab culture in general, went in the direction of studying both Arab medieval poets and the Muslim world.
Full Text
Н.С. Гумилёв, начиная в 1905 году своё восхождение на поэтический Олимп со сборника стихов «Путь конкистадоров», как и многие писатели серебряного века, прежде всего старшие символисты, пошёл в направлении расширения литературной географии и представил читателям образ испанского рыцаря-завоевателя, сумевшего освободить свои земли от арабов и намеревавшегося теперь отправиться за дальнейшими подвигами в Новый Свет и Африку. Неслучайно многие образы и мотивы арабской культуры будут присутствовать уже в первом поэтическом сборнике Н. Гумилёва. Так, в эпиграфе к первому поэтическому сборнику словами Андре Жида звучит мысль о представлении конкистадора кочевником, которому доступно в первую очередь эстетическое восприятие окружающей действительности: «Я стал кочевником, чтобы сладострастно прикасаться ко всему, что кочует!» [6, с. 1]. Подобное соединение в образе воина-кочевника эпикурейца и эстета уже отсылает к арабской средневековой поэзии, в которой переплетение мотивов любви и войны будет составлять одну из генеральных линий [8].
Третье стихотворение сборника – «Песнь Заратустры» – не только подтверждает интерес Гумилёва к арабской культуре с первых шагов в творчестве, но и демонстрирует желание поэта сделать именно восточную линию одной из ведущих в своей поэзии, которая вырастала на образах, заимствованных из ницшевского «Так говорил Заратустра». С одной стороны, автор «Песни Заратустры» будет в своём творчестве обращаться к образам пустыни и её обитателей – верблюду и льву, которые населяют книгу Ницше: «Всё самое трудное берёт на себя выносливый дух: подобно навьюченному верблюду, который спешит в пустыню, спешит и он в свою пустыню. Но в самой уединенной пустыне совершается второе превращение: здесь львом становится дух…» [9, с. 312]. С другой стороны, русский поэт воспевает братское единение, не совсем принимая утверждаемый немецким философом индивидуализм: «Юные, светлые братья \ Силы, восторга, мечты / Вам раскрываю объятья…» [2, с. 37]. Безусловно, пока ещё арабские мотивы выступают в первом сборнике Гумилёва как экзотический топос неоромантической поэтики, вследствие чего так много говорится о «мечте» и «голубой высоте», в то же время образ воина-кочевника, поданный в исключительно возвышенном тоне, становится одним из самых ярких и постоянных как в лирике, так и в драматургии поэта.
Ещё один ведущий мотив поэзии Серебряного века – мистический – нашёл отражение в сборнике «Путь конкистадоров» в образе лирического героя-поэта, сопоставимого с образами испанских поэтов-суфиев (Ибрахимом ибн Сахлем или Иегудой Галеви), для которых тождество эзотерического содержания всех религий было неопровержимым и которые активно пользовались для создания образности астрологическими понятиями. Это мы видим и у Гумилёва в стихотворении «Credo»: «Мне всё открыто в этом мире – / И ночи тень, и солнца свет, / И в торжествующем эфире / Мерцанье ласковых планет» [2, с. 38]. Эти суфийские образы открывали Гумилёву простор для поэтического протеизма, для всеохватности культур любых народов, но прежде всего, его интересовали религии и культуры Востока, с чем он связывал обновление национальной традиции: «Когда ж забрезжится восток / Лучами жизни обновленной?» [2, с. 52].
Подобное обновление совершает поэт серебряного века и с лирической героиней, образ которой многое вбирает в себя из арабской средневековой поэзии [1]. Одним из постоянных сравнений в творчестве Гумилёва явится сопоставление женщины с Луной, которое будет звучать в стихотворении «Пять могучих коней мне дарил Люцифер»:
Ее голос был тихим дрожаньем струны,
В ее взорах сплетались ответ и вопрос,
И я отдал кольцо этой деве Луны
За неверный оттенок разбросанных кос [6, с. 46].
Утвердившийся в арабской поэзии постоянный набор признаков, характеризующих голос, взгляд и внешний вид лирической героини, получает в этом гумилёвском стихотворении завершение в образе девы-Луны, само определение которой – уже отсыл к творчеству поэтов Востока (от Абу ʻАбдаллаха Рудаки до Хафиза), в котором таким сравнением награждались красавицы и возлюбленные. Следует подчеркнуть, что образ Ахматовой, зашифрованный в Акростихе («Адис-Абеба, город роз» [3, с. 29]), будет рисоваться Гумилёвым именно с использованием восточно-арабской палитры.
Образ эфира из стихотворения «Когда из тёмной бездны жизни…» сборника «Путь конкистадоров» – снова отсылка к восточной мистике, но на этот раз обусловленной более древней, египетской мифологией, к образу Осириса.
В «Романтических цветах», втором сборнике стихотворений Н. Гумилёва, звучание арабских мотивов и образов усиливается, причем автор как будто разбивает главный жанр средневековой арабской поэзии – касыду – на составляющие и из её частей формирует целое книги стихов. Так, особенное внимание поэт уделяет первой части касыды – описанию флоры и фауны [10], – места, где недавно обитала возлюбленная.
Там «из пещеры крадётся гиена» с зловещими и унылыми глазами; там живет прекрасный, как бог, лев; там обитают черные пантеры с отливом металлическим на шкуре и бегающие в розовом тумане носороги, фламинго и павлины, а также аисты и орлы, но все они лишь ширма для удивительного чудесного зверя – жирафа, подобного «цветным парусам корабля». Так же волшебна флора тех заповедных мест, в которых живут «величавые арабы»: здесь цветут необычайные растенья, не только стройные пальмы тропического сада, но и алеющий цветок и восточная лилия.
Ещё одна примета таинственного арабского мира «Романтических цветов» – упоминание многочисленных каменьев, которые разбросаны гроздьями по всем стихам книги: это и изумруды, и жемчуга, и рубины, и янтари, и золото, и серебро, и, конечно же обрамляющие это великолепие, шелка, духи и зеркала.
В третьем сборнике стихов «Жемчуга» Н. Гумилёв представляет центральную часть жанра касыды – само путешествие, которое совершается лирическим героем как в подземный мир (в стихотворении «Волшебная скрипка»), так и в горний (в стихотворении «Старый конкистадор»). В этой книге стихов читатель найдёт и результат мистического путешествия – собственно встречу с девой-луной в стихотворении «Свидание», после которого на душе остаётся некий «знак». И если душа в этом лирическом произведении сравнивается с образом зверя, то сердце сопоставляется с образом травы в «упоительном саду» в стихотворении «Рощи пальм и заросли алоэ…».
Наибольшее проявление арабского культурного кода обнаруживается в четвёртой книге стихов Н. Гумилёва «Чужое небо», в котором автор как будто обобщает достижения западной поэзии и её взгляда на арабский Восток. Неслучайно здесь упоминается Ликонт де Лиль в стихотворении «Однажды вечером», будет высвечиваться образ Синдбада («Ослепительное»), впервые будет упомянуто имя Аллаха («Паломник»), а также будет звучать мотив забвения ратных подвигов («Туркестанские генералы»). В стихотворении «Военная» будет представлен взгляд арабов как на Африку (упоминание города Харрар), так и на Русь (образ ашкеров). Это смещение оптики с русского взгляда на арабский должно было свидетельствовать об установлении уже не литературного, а реального диалога с арабской культурой.
В связи с этим в книге стихов «Колчан» звучат мотивы разочарования от столкновения лирического героя с действительностью, которое наводит на размышления о том, «что дон Жуан не встретил донны Анны, / Что гор алмазных не нашел Синдбад / И Вечный Жид несчастней во сто крат» [4, с. 84] («Пятистопные ямбы»). Призрачный мир литературы оказывается зыбким, не дающим лирическому герою ничего, кроме «презренья к миру и усталости», отчего он находит упоение в бою.
Подобное опустошение происходит и с суфийским представлением о тождестве всех религий. В стихотворении «Ислам» Гумилёв говорит о разочаровании своего героя в вере:
«Мыши съели три волоска из бороды Пророка» [6, с. 253]. Эти мотивы соотносятся с названием всего сборника: колчан со стрелами знаменуют собой этап переосмысления лирическим героем всех прежних основ его бытия, отречение от прошлого.
Поэтому название следующего сборника – «Костёр» – видится символическим переходом лирического героя на новый уровень жизнестроительства. В стихотворении «Эзбекие» указывается время, после которого совершается преображение героя – 10 лет. И уже последующие сборники стихов Н. Гумилёва – «Огненный столп» и «Фарфоровый павильон» – представляют лирического героя в новом качестве, а сами стихи являют собой наивысшее формальное совершенствование, поразительно, что центральной темой будет по-прежнему звучать тема арабского Востока, подаваемая теперь в персидском изводе, что будет отражаться даже в названиях произведений: «Подражание персидскому», «Персидская миниатюра», «Моим читателям». А сборник стихов «Шатёр» будет представлять собой вереницу стихотворений об Азии и Африке. Так, в стихотворении «Красное море» нарисован образ араба, погибающего «в грязно-рыжих твоих и горячих волнах» [7, с. 72]. В стихотворении «Египет» появляется образ шейхов, читающих Коран [5, с. 17], а в стихотворении «Сахара» Гумилёв утверждает мысль о связности арабских стран с Россией в том, что составляет безбрежность, будь то Сахара, Красное море или леса Сибири. Особенным православным взглядом смотрит лирический герой стихотворения «Галла» на «тропический Рим» и поклоняется не только мечети, но и пальмам, в знак уважения.
Таким образом, начиная с первых сборников стихов и на протяжении всего своего творчества Н. Гумилёв обращался к арабским и персидским образам и мотивам, составляющим своеобразный «арабский текст» в поэзии серебряного века. Его многоуровневость определяется разными хронологическими пластами, связанными в сознании русских писателей с арабским культурным ареалом. В поэтической мифологии Гумилёва особую важность приобретали как арабо-андалусская, так и собственно арабская средневековая поэзия, как экзотический топос пустыни с его флорой и фауной, так и культура Ислама.
References
- Арабская поэзия средних веков. – М.: Художественная литература. 1975. – 768 с.
- Гумилев Н. С. Полное собрание сочинений в 10 т. Т. 1. Стихотворения. Поэмы (1902- 1910). – М.: Воскресенье, 1998. – 502 с.
- Гумилев Н. С. Полное собрание сочинений в 10 т. Т. 2. Стихотворения. Поэмы (1910- 1913). – М.: Воскресенье, 1998. – 344 с.
- Гумилев Н. С. Полное собрание сочинений в 10 т. Т. 3. Стихотворения. Поэмы (1914- 1918). – М.: Воскресенье, 1999. – 464 с.
- Гумилев Н. С. Полное собрание сочинений в 10 т. Т. 4. Стихотворения. Поэмы (1918- 1921). – М.: Воскресенье, 2001. – 394 с.
- Гумилев Н. С. Собрание сочинений в четырёх томах. Т. 1. – М.: Терра, 1991. – 416 с.
- Гумилев Н. С. Собрание сочинений в четырёх томах. Т. 2. – М.: Терра, 1991. – 416 с.
- Куделин А. Б. Арабская литература: поэтика, стилистика, типология, взаимосвязи. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 512 с.
- Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. – М.: Эксмо-Пресс; Харьков: Фолио, 1998. – С. 295–556.
- Фильштинский И. Арабская поэзия средних веков // Арабская поэзия средних веков. – М.: Художественная литература. 1975. – С. 697–717.